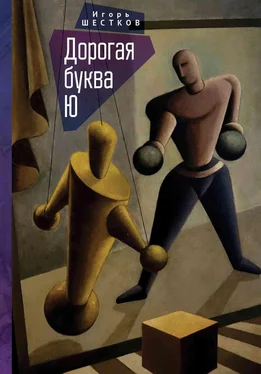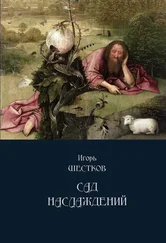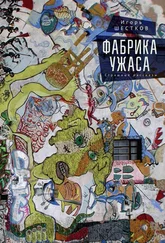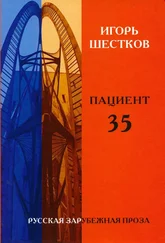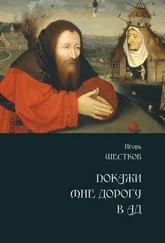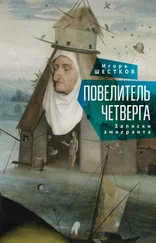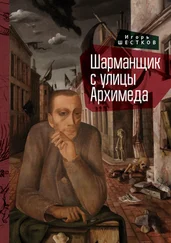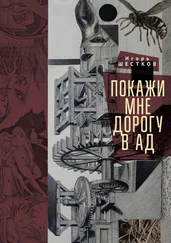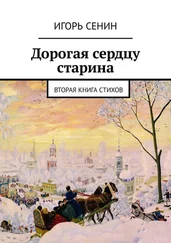Советчина не может породить ничего кроме своего подобия, и мы, выходцы из этого поганого болота, не можем написать ничего, что бы ни было его производной. Даже самые талантливые из нас. Я не знаю ни одного исключения из этого правила.
Последняя книга Войновича — пережевывание старых, хорошо знакомых тем.
Надо уметь вовремя остановиться. Замолчать. Но этим искусством даже гении не владеют. Войнович не замолчал.
Жил в Германии хорошо, но, как только представилась возможность, — вернулся на родину, в СССР. Покинул свободную дорогу жизни ради того, чтобы потоптаться в родном тупике. Понежиться в лучах славы.
Я из СССР в 1990 году уехал, а он вернулся и прожил там еще почти тридцать лет. Получил в 2001 году Государственную премию. Вел себя позже безукоризненно, мужественно. Подписывал. Выступал. Осуждал. Упорно рисовал примитивные картинки маслом.
…
Главная мысль этого текста, или, точнее, главное сожаление — не о Войновиче… земля ему пухом…
Даже очень талантливый русский писатель не может преодолеть притяжение свинцовой родины — «взлететь» и стать писателем мировым. Вот что плохо. Его, как мотылька — свечка, притягивает родная жесть и он — даже не всегда это замечая — копается всю жизнь в родной песочнице. Большая жизнь проходит мимо.
До революции мировые писатели в России были, после — нет. И не появятся больше никогда.
«Мировой писатель» — не значит этакий адски сильный, великий, могучий (это все русские категории — обратные стороны комплексов поротого холопа)… мировой, это значит только, исследующий человека, жизнь и судьбу во всеоружии мировой культуры… а не только ковыряющий червивую почву своего этноса и вдохновляющийся ее миазмами.
Литература для меня — не самоцель… это было бы слишком самонадеянно. После всех звезд, после галактик… космических гигантов… пытаться зажечь еще одну, тусклую, слабую звездочку… глупо даже.
Нет, литература, этот художественный эксперимент, закрепленный в тексте — для меня — способ познания, узнавания… мира, эпохи, прошлого, меня и моих современников, человека вообще.
Форма существования, форма жизни. Что-то вроде дрожжей.
* * *
Спасибо за то, что вы прочитали «Вторжение». Но эта небольшая вещь никак не соотносится с Чонкиным и не может быть с этим огромным текстом сравнима. Разные вещи… разные подходы к слову, к действию. И поверьте мне на слово — никогда никакой зависти к Войновичу я не испытывал — мы находимся в разных нишах… и по времени, и по возрасту, и по смыслу текстов, по их направлению и по задачам, которые ставили, и по художественным приемам… и не пересекаемся, разве что на одном языке пишем. Не конкурируют друг с другом розы и мимозы. И не завидуют друг другу.
* * *
Как известно, у искусства настоящей, не постановочной фотографии есть двое родителей — нищета и война. Только там, в окопах… и в среде бездомных, обездоленных, отчаявшихся, озверевших — можно сделать по-настоящему хорошее фото. И фотограф — должен иметь мужество окунуться в ужас жизни. Иначе — его фото будут попросту скучными.
С писательством — легче, но в принципе — также. Хочешь написать что-то стоящее — переживи это. Пожертвуй своим счастьем, здоровьем, судьбой…
Иначе проза будет пластмассовой. Неживой.
Достоевский должен был посидеть и пострадать в Мертвом доме, Толстой и Лермонтов — участвовали в Кавказских войнах, Булгаков — пережил Гражданскую в Киеве. Даже Пушкина тянуло на войну… а Чехова — на Сахалин.
Русский писатель боится покидать родину — не только из-за потери живого языка, он понимает, что, расставшись с ней и ее полубезумными обитателями, — потеряет соль писательства. Станет пресным и скучноватым — как например Довлатов в Америке.
Остается в России — и получает свой мученический венец.
Или — значительно чаще — становится подпевалой властей.
Печально и тривиально то, что весь этот цирк повторяется и повторяется заново «от Курбского до наших дней». Заезженная пластинка.
* * *
Я в Германии — вначале отказался от русского языка, решил его забыть. Около 10 лет его практически не использовал. Не интересовался русскими делами, на родину не ездил.
Потом начал писать эссе про искусство — на немецком. Разумеется, тексты мои правили друзья.
Затем осознал-таки, что на немецком пишу примитивно. Пришлось вспоминать русский.
Русскую прозу я начал писать в Германии только в 2004 году, на 14-м году эмиграции. От скуки, честно говоря. Жил тогда один в районе Тиргартен, все осточертело, видеть никого не хотел, начал кропать рассказики.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу