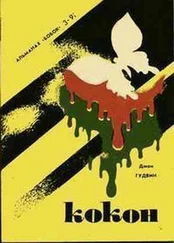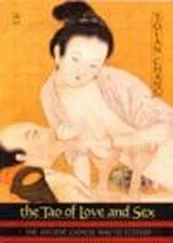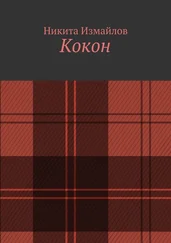Теперь в старом корпусе работали только женщины под пятьдесят, из-за климакса все вздорные и жестокие, как на подбор. Кормили и давали лекарства не по расписанию, постельное белье меняли когда им заблагорассудится, с пациентами обращались из рук вон плохо, постоянно кричали на больных с недержанием. Некоторые родственники ходили жаловаться, но руководство ограничивалось воспитательными беседами, а проку от таких бесед было мало. Директор больницы предпочитал посвящать себя заботам о строительстве нового корпуса да медицинским премиям. Он понимал, что даже если возьмется за старый корпус и приведет его в порядок, на продвижение по службе это никак не повлияет, и смотрел на творящееся там сквозь пальцы: никого пока в могилу не свели, и ладно.
Старый корпус прозвали стационаром с фуриями. Мы с тетей знали, что эти фурии отвратительно “ухаживают” за дедушкой. Ведь пожаловаться он все равно не может. Они ни за что не будут терпеливо переворачивать дедушку, обтирать его по расписанию, менять подгузники. У него появятся пролежни, плоть начнет гноиться, мышцы полностью атрофируются, это может привести к остановке сердца… Но ни я, ни тетя не заходили к нему в палату и не рассказывали о новых порядках бабушке – боялись, что она побежит ругаться со склочными медсестрами из стационара. Правда, бабушка и сама жила в Наньюане, а вокруг всегда хватало любительниц посплетничать, могла ли она ничего не знать? Скорее всего, как и мы, бабушка просто закрывала глаза на правду. Ведь “узнай” она, что творится в старом корпусе, пришлось бы устраивать настоящий скандал, чтобы сохранить за собой славу человека, которым нельзя помыкать. Но бабушка постарела, теперь склоки давались ей труднее, да и повод был нестоящий. Проживет дедушка на пару лет меньше, и что с того? Между нами как будто появился негласный договор – не вспоминать о дедушке и триста семнадцатой палате. Наверное, мы ждали, что однажды настанет день, когда из больницы позвонят и скажут, что дедушка умер.
Но никто не звонил. А осенью 1995 года я снова оказался в триста семнадцатой палате. Я тогда страшно поругался с бабушкой. Скоро мне должно было исполниться четырнадцать, а я по-прежнему делил одну комнату с тетей. Мне это очень надоело, я хотел, чтобы тетя перебралась в гостиную к бабушке, дряхлые сундуки можно было передвинуть, освободить немного места и поставить туда новую кровать. Но бабушка не хотела трогать сундуки и жалела денег на кровать. Тетя оказалась меж двух огней и, судя по всему, затаила на меня обиду. Мое законное требование она расценила как желание от нее избавиться.
Я разозлился и решил сбежать из дома. На другой день была суббота, с утра пораньше я упаковал рюкзак и ушел. Приехал на автовокзал и принялся оцепенело разглядывать маршрутные таблички с незнакомыми названиями городов, а автобусы один за другим исчезали в облаках пыли. Я пробыл там до полудня, но так и не смог разбудить в себе тягу к дальним странствиям, только больше поддавался страху. Внутренний голос, к которому примешивались голод и усталость, звал меня домой. Но сразу вернуться не позволяло самолюбие, я должен был хотя бы переночевать не дома, иначе это не побег. Куда же пойти? И тут перед глазами возникло дедушкино лицо, подобное лику бодхисатвы.
На исходе дня я поднялся на третий этаж стационарного корпуса и направился к дальней по коридору палате. Дверь была приоткрыта, тень на полу напоминала незаконченный женский портрет. Я обошел ее и заглянул внутрь. В палате действительно была женщина, она сидела на краю кровати и обтирала дедушку. Закатав на нем кофту, влажным полотенцем обтерла грудь и живот, потом повернула его на бок и прошлась полотенцем по спине. Опустила кофту, расправила складки. Затем приподняла дедушку за поясницу и спустила мешковатые белые подштанники до самых лодыжек. Сняла со спинки кровати полотенце и провела им по дедушкиной ноге, от голени и вверх. Отделенная слоем ткани, ее ладонь скользила по его бедру. Дедушкина нога давно была мертва, но я почти видел, как она дрожит. Женщина прервалась, отошла к подоконнику, взяла термос, затем присела на корточки, и в воздухе заклубился белый пар. Наверное, она долила в таз горячей воды и полоскала в ней полотенце. Мне было не видно, кровать загораживала обзор, и я очень разволновался – женщина вдруг исчезла, а вода журчала так дразняще. Наконец она встала и расправила горячее полотенце. Закатные лучи лились в окно за ее спиной, струились по плечам и падали на белую ткань, искажая цвет. Полотенце отливало пурпурным, утопало в мягком облаке пара. Женщина свернула его, перебросила из левой руки в правую, потом обратно в левую, и так несколько раз, пока оно не остыло. И снова взялась за дело. Наклонилась, провела тканью по дедушкиному паху, по внутренней стороне его бедер. Приподняла его обвисшие гениталии и нежно их обтерла, влажные пальцы касались иссиня-коричневой кожи, скользили по изголодавшимся складкам. Она медленно опустила дедушкин пенис, и он снова прикорнул в бледных зарослях. Я почти тонул в своем лихорадочном дыхании, сердце как будто билось не во мне. А в ее руках. Она вынула из-под подушки тюбик с целебной мазью и натерла ей дедушкины ягодицы. А потом держала их на весу, пока мазь не впиталась.
Читать дальше
![Чжан Юэжань Кокон [litres] обложка книги](/books/385674/chzhan-yuezhan-kokon-litres-cover.webp)


![Пол Андерсон - Кокон [ Межавт. сборник]](/books/94579/pol-anderson-kokon-mezhavt-sbornik-thumb.webp)