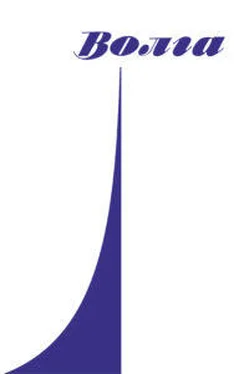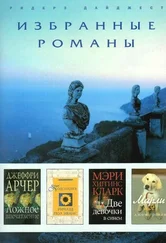— Не видала ты танков, что ли, — бурчит он. — Небось лет-то тебе сколько?
— Видала. И эти даже видала, со звездой. Но только тогда… тогда другое было, тогда они немцев прогнали, и все надеялись… А мне ведь как казалось: вот я родилась, а тут война, я и не помню почти ничего, только что холодно и страх, а толком ничего. И потом вдруг весна, май, яблони цветут — и русские приходят, смотрят, повторяют за нами — «Злата Прага… Злата Прага…». И все мне казалось, что вот как я расту, так и мир со мной тоже растет, и все будет только лучше, а тут…
Горло сдавило, я еле сдерживалась, чтобы не заплакать.
— А тут вдруг… как будто мы им враги. Как можно вообще? Так… как к себе домой… и Прага уже не Злата, понимаешь? И уже не наша тоже…
— Политика, — угрюмо вздыхает дядя Иржи. — Но и леший бы с нею, но что ж тебя аж сюда-то закинуло? Мать-то где, к примеру?
— Мама там… осталась. Сказала, ей уже что… а я молодая, мне еще жить и жить… А Павел в Дюссельдорф уехал, а я вот… потому что, знаешь, если они к нам как к себе домой зашли, что их остановит? Какие границы? А тут хотя бы… океан.
— Ну ладно, океан тебе. А жить-то как думаешь? Язык знаешь?
— Испанский нет… не знаю… Немецкий знаю, конечно. Английский немного. Французский так… с пятого на десятое…
— А дело какое-нибудь знаешь?
— Ну… я учительницей работала… а потом в журнале для молодежи писала… о книгах там, о музыке — что слушают, что поют… а журнал первым делом и закрыли, потому что «тлетворное влияние»…
— Учительницей… В журнал… И о чем только твоя мать думала… Кому тут учительница нужна, что чешского, что немецкого… Я сам человек простой, я тут «сервесеро чеко», пивовар, ну, у меня всех дел пивоварня, и рабочее место если есть, так на складе…Эх, Ката, Ката, задала ты мне задачу…
Я молчала. Что тут скажешь? Дура и есть, конечно, и надо было дома оставаться… Но вся эта тоска и страх… и Павел с распухшим чужим лицом… И танки. Проползают медленно, с хрустом, давя белый свет.
— Ладно, — говорит дядя Иржи и набычивается так, что белая рубашка с короткими рукавами аж хрустит у него на спине. — Ладно. Не отсылать же тебя назад, раз уж так далеко. Поживешь у нас пока, пристрою тебя учетчицей на складе, все-таки пиво я варю хорошее, а они тут до него не дураки… и в школу с Марженкой моей походишь, а нет, так хоть учебники ее почитаешь, ты девка разумная, глядишь, через полгода уже и лопотать будешь, язык у них нехитрый, раз уж я тут как заправский дон Хорхе болтаю, и ты сумеешь… А там, может, замуж тебя отдадим, или еще как жизнь устроится… ну, не реви, не реви, а то и реви, вода дело такое, как пришла, так и уйдет…
Поднимается из кресла и выходит, и по пути бормочет себе под нос: «Ишь ты… танки…»
В студии неяркий свет, пахнет деревом, пластиком, немного озоном и горячим металлом. Микрофон свисает со штанги, как звезда. И мерцает в полутьме, как звезда. «С вами радио „Эль Хирасоль“…»
Мне нравится, как ты молчишь: как будто тебя и нет,
Как будто мой далекий голос не трогает тебя.
Кажется, и взгляд твой упорхнул,
И поцелуй сомкнул твои уста и запечатал.
Лампочка на длинной ножке освещает часть пульта, листки с текстом, но человеку у микрофона сейчас не надо смотреть в текст. Он закрыл глаза, он читает по памяти.
Поскольку все на свете наполнено моей душой,
Ты проступаешь из всего на свете, моей души полна.
Мотылек моих снов, как с моей душой ты схожа
И с печалью, со словом печали.
Кто его слушает? Кто не спит ранним утром — молодые матери, старики, рабочие в порту, больные, которым неймется в этот час? У кого есть радиоприемник, время, бессонница, кто вращает ручку, чтобы услышать его голос?
Он не знает наверняка. Он просто говорит наизусть.
Мне нравится, как ты молчишь — как будто в отдаленье
Безмолвно жалоба твоя как мотылек трепещет.
Меня не слышишь, голос мой тебя не достигает.
Позволь и мне молчать в твоем молчанье.
В городе замирает ночная жизнь. Повара и охранники, официанты и танцовщицы выходят в бледный рассвет. Вот идут трое парней и девушка, похожая на мальчика, у одного из компании — долговязого и стремительного в движениях — радиоприемник висит через плечо. Музыки не хочется после целой ночи грохота и рока, новостей еще нет, и вдруг — голос. Негромкий, медленно отпускающий слова в наступающий день. Долговязый замирает. Компания обгоняет его, машет, окликает, он отмахивается — стоит и слушает с удивленной улыбкой на лице.
Читать дальше