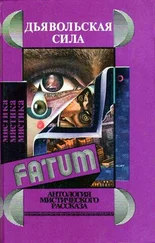Кочет дрожал то ли в исступлении, то ли от холода. Инфузорией, но среди известного, — едва помыслил, как просыпался, проспался, просеялся как персть. Катастрофичность усугублялась упорствующим в единичности сознанием, чье бормотание раздавалось теперь со всех побережий космоса. Эта агония, развернутая в парсеки, с невообразимыми гирляндами миров, увиденных мельком, обессилила его. Продолжал истошно вопить, уже очутившись на опушке леса. Ветер сдувал снежинки с краев свежего котлована с Кочетом на дне. Держась за ушибленный бок, выбрался на дорогу и побрел в сторону деревни.
Она носила шаль и шла через поле наискосок, легко, совсем не проваливаясь в снег. «Эй!» — крикнул Кочет и подул на пальцы. Блажь — и блаженство — смыло, он мерз. Женщина приближалась, узкие следы ее должны пересечься с провалами валенок Кочета. Когда это случилось, Кочет близко взглянул в юное лицо, еще раз гаркнул «Эй!», но не обернулась, тогда попросту ухватился за лямку ее рюкзака. От рывка потеряла равновесие, и вот уже вместе с Кочетом барахтаются в снегу. Кочет не сомневался, что пьяна, иначе куда бы к ночи к лесу. Помог подняться, без грубости предложил ночлег. Сразу согласилась, зашагала следом, все так же удивительно не проминая наст.
Уже убедившись, что гостья вменяема, и напоив чаем, Кочет приступил к расспросам. Была не в меру молода, тонка, красива и плохо одета. Люда, так ее зовут, уже год подвизается в странничестве. Кочет переспросил: ищет заработка, жилья или пробирается к родственникам? — Попросту бродит, поскольку тело должно быть чем-то занято. — Почему бы тебе не занять его нормальной работой? Есть у нее специальность? — На работе всегда люди, они мешают. — Чему мешают? — Молиться. — Молятся в церкви, осторожно заметил Кочет. — Молятся в сердце, откликнулась.
Она имеет в виду знаменитую умную молитву христианских аскетов, скоро понял Кочет. Бедное дитя начиталось душеполезной литературы. Мазохизм христианства. Методически растаптывать в себе все человеческое. И каждый стоит как единственный. Но не гордость тут, а бездной округлившееся одиночество. Спустя эпохи Бог ставит духу планку, и поднимает ее все выше — от простых, как нимфы, мифов до ослепительного откровения христианства. Миру неподсильно и первое, и лишь одинокие исполины участвуют в евангелии. Ибо христианство есть целиком теургия собственной плоти, собственной души.
— Меня могут искать, — прервала его размышления Люда.
— Кто?
— Брат.
— Чтобы вернуть домой?
— Чтобы убить.
Кочет вздрогнул. Не помешанная ли эта девица?
— Почему убить?
— Он любит меня… И преследует неотступно месяц за месяцем, местность за местностью, исхудавший, как тень, и всё жаждет мести. Сам нищий, лишенный всего, но что у него на душе? Из каких дебрей он движется?..
— Странничество, кроме прочего, значит еще и грязное белье, случайные связи, водку в подворотне, приемник-распределитель. Или удается избежать?
— Я не захожу в города. Россия же вся из распахнутых безлюдных пространств, как сто лет назад.
— Побираться не стыдно?
— Подавая, люди пробуждаются, и это их иногда спасает. Я и прошу ради Бога. Самой бы и хлеба не надо, ничего не надо…
— Но есть путь монашества, — опомнился Кочет. — Этот институт, кажется, именно предназначен для христианского подвига.
— Я еще очень гордая, — потупилась. — В монастыре хотела бы видеть Монсальват и Шамбалу, в настоятеле — не меньше чем Исаака Сирина. Наверно, я грешу, говоря это, но ведь у каждого своя дорога и надежда.
— Разве у верующих не одна надежда?
— Христианин спасается. А я хотела бы лишь служить Богу, везде, всегда, в этом и любом теле, на земле и в аду.
— Как же тебе удается узнавать Его повеления? А может быть, они нашептаны другим? — жадно продолжал спрашивать Кочет.
— Когда действительно узнаешь Его, этот вопрос исчезает. Как и все вообще вопросы.
— Значит, правда, что фанатическая вера ничем не отличается от шизофрении и ведет разум к маразму, — взволнованно пригвоздил Кочет.
— Мне кажется, жажда знания — всего лишь зуд несовершенства. Совсем недавно ее сделали добродетелью. Пытливость ума осуждается Богом не потому, что слишком многое открывает. Любопытствующий взгляд искажает мир, а разум принимает эти сломанные побеги за истину.
— Разве не к познанию призван человек, единственное разумное существо?
— Разум — орган упорядочения, а не познания. Обожение стало бы гармонизацией мира по горнему начертанию. Так думали о смысле человека еще библейские пророки.
Читать дальше




![Хол Клемент - Огненный цикл [ Экспедиция Тяготение. У критической точки. Огненный цикл]](/books/80564/hol-klement-ognennyj-cikl-ekspediciya-tyagotenie-thumb.webp)