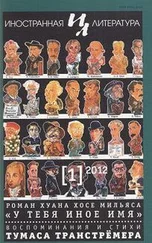– Текл, – приветствует он ее. – Еще один день тупоумных встреч с идиотами из совета, которые устраивают бучу на пустом месте. Я так сильно по тебе скучаю. Дорого бы отдал сейчас, чтобы обнять тебя.
Пауза (он на слух ощущает все разделяющие их мили), потом она отвечает бесцветным голосом, что он должен включить свое имя в страховку автомобиля до первого марта, прибавляет, что их сосед тоже хочет поговорить с ними по поводу стока, того, что со стороны садика… Перебивая, Рабих повторяет (ласково, но твердо), как он скучает по ней и жалеет, что они не вместе. В Эдинбурге Кирстен, свернувшись калачиком в уголке («его» уголке) дивана, натянув на себя его джемпер, держит на коленях миску с тунцом и кусок поджаренного хлеба. Она вновь умолкает, но потом отвечает Рабиху всего лишь отрывистым: «Да», – звучащим сухо, по-деловому. Жаль, что он не видит, с каким трудом она сдерживает слезы. Это не первый случай.
Нечто похожее по степени отчужденности случилось в прошлый раз, когда он был здесь, а еще раз, когда он был в Дании на конференции. Тогда он упрекнул ее в странном тоне разговора по телефону. Теперь он был просто обижен. Он всего лишь разумно обратился за теплотой, и вдруг они, кажется, оказались в тупике. Он смотрит на тюремные окошки напротив. Стоит ему уехать, как она пытается протянуть между ними еще большее расстояние, чем оно и без того пролегает по земле или воде. Он жалеет, что не может найти способ достичь ее, и раздумывает, что могло бы вызвать в ней такую отдаленность и недоступность. Кирстен и сама не уверена. Она смотрит глазами, полными слез, на кору старого, пережившего много непогод дерева прямо под окном, с особой сосредоточенностью думая о папке, которую надо будет завтра не забыть взять с собой на работу.
Конструкция выглядит примерно так: явно обыкновенная ситуация или замечание вызывает у кого-то из пары реакцию, которая не кажется адекватной, поскольку непривычно наполнена досадой или возмущением, раздражением или холодом, паникой или встречными обвинениями. Тот, на кого все это обрушивается, озадачен: в конце концов он всего лишь просил попрощаться по-человечески, подумаешь, оставил тарелку-другую немытыми в раковине, подколол супругу или опоздал на несколько минут. Откуда ж тогда необычная и какая-то чрезмерно бурная реакция?
В таком поведении мало смысла, когда кто-то пытается понять его, исходя из имеющихся фактов. Это как если бы какой-то эпизод внезапно был бы взят из другого сценария и актеры вдруг начали играть других героев. Ответственность несет переборщивший, как говорят психологи, за «проекцию» эмоции из прошлого на кого-то в настоящем – на того, кто, наверное, не совсем того заслуживает.
Странно, но наше сознание не всегда хорошо распознает, в каком времени оно находится. Оно уносится от реалий слишком легко, как жертва ограбления, которая держит револьвер под подушкой и пробуждается от любого шороха.
Еще хуже для возлюбленных, остающихся поблизости, то, что людям проецирующим не так-то легко понять, зачем они это делают, не говоря уж о том, чтобы спокойно объяснить, что им надо: они просто чувствуют, что их реакция полностью соответствует случаю. Партнер же, с другой стороны, может прийти к иному менее лестному выводу: он явно странный – и, возможно, даже слегка безумный.
Отец Кирстен бросил ее, когда ей было семь. Он ушел из дома без предупреждения или объяснения причин. В тот самый день, прежде чем уйти, он изображает верблюда, играя на полу гостиной, и носит ее на спине вокруг дивана и кресел. Перед сном он читает ей из книги немецких народных сказок всякие истории про одиноких детей и злобных мачех, про чудеса и утраты. Говорит ей, что в книжке только такие сказки. И потом он исчезает. Отреагировать можно было бы по-разному. Реакция Кирстен – бесчувствие. Другой она позволить не может. Все вокруг: учителя, две ее тетки, психолог, с которым они встречаются время от времени, – твердят, что она держится молодцом. Учеба в школе и вправду пошла лучше. Но внутри себя она совсем не была молодцом: чтобы плакать, нужны хоть какие-то силы, уверенность в том, что в конце концов удастся слезы остановить. Она не может позволить себе чувствовать даже легкую печаль. Стоит чуть расслабиться, Кирстен распадется на кусочки и никогда не узнает, как собрать себя заново. Предотвращая беду, она до бесчувствия прижигает свои раны – насколько у нее, у семилетней, хватает умения. Но время бежит. Прошло много лет, она уже может любить (на свой собственный лад), но вот чего она на самом деле позволить себе не может, так это ужасно скучать по кому бы то ни было, даже по тому, кто в паре часов езды и точно возвратится домой через несколько дней поездом в восемнадцать часов двадцать две минуты. Только, конечно же, она не может объяснить и даже понять свое поведение. Дома оно не вызывает радости. В идеале ей бы иметь у себя в услужении ангела-хранителя, могущего волшебством приостановить действие, как только Рабих станет раздражаться, с тем чтобы умыкнуть мужа из его бюджетной гостиницы и перенести его по воздуху, сквозь плотные облака нижних слоев атмосферы в Инвернесс времен четвертьвековой давности, где он мог бы увидеть через окно маленького домика узкую спаленку, в которой маленькая девочка в пижаме с медведями сидит за своим столом и с методичной аккуратностью закрашивает квадратики на большом листе бумаги, стараясь сохранить здравомыслие, ибо душа ее пуста от печали, слишком непомерной, чтобы ее признать. Имей Рабих возможность увидеть эту картину стоического долготерпения Кирстен, сочувствие пришло б к нему само собой. Он уяснил бы трогательные причины ее сдержанности и незамедлительно подавил бы собственную обиду настолько, что обратился бы к ней с нежными уверениями и симпатией. Увы, нет никакого ангела на крыльях и, следовательно, никакого волнующего чувствительного рассказа, затеянного, чтобы осветить прошлое Кирстен. Только ее непритворная реакция – вот что достается Рабиху для того, чтобы попытаться извлечь из нее смысл – вызов, разжигающий в нем предсказуемо нестерпимое искушение осудить жену и обидеться.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу