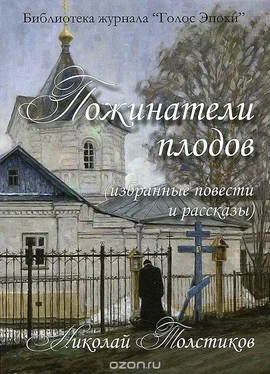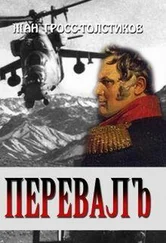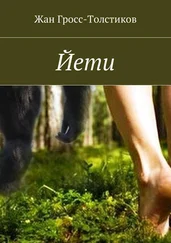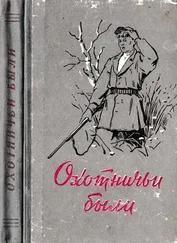Не венчались — церкви закрыты и в сельсовет «расписываться» не пошли.
И не замедлила, лягнула она. В блуде-то жизнь…
Схоронив матушку, погоревав, Манечка ровно взбесилась. Женщина грамотная, в колхозной конторе ей местечко нашлось. Там с компанией связалась, едва в комсомол не затащили, кабы не происхождение. Но по избам-читальням исправно ходила, где и спуталась с конюхом Митькой, по кустам с ним стала шарашиться.
В деревне все на виду и на слуху; кто жалел, а кто осуждал Зерцалова — что за мужик, нет бы положил конец прелюбодейству! Но Василий лишь скрипел бессильно зубами: вроде муж и не муж, а так — сожитель. Заикнулся несмело — Мария сходу заявила: под венцом перед Богом с тобой не стояла и записи о нашей совместной жизни нигде нет. Вольная птица, свободная женщина.
Митьке вот только скоро она наскучила, наигрался парень вволю, а в жены брать белоручку — Боже упаси! Да и вроде она замужняя…
Мария, опять же по совету новых своих подружек, сходила к знахарке и приползла потом домой чуть живая. Василий уж думал — все, хлопотал над ней, позабыв обиды, отпаивал с ложечки, доктора из города пригласил.
Супружницу удалось выходить. Присмирела она, замкнулась в себе и, случалось, иной день Василий слова от нее не слышал. Но стоило однажды вспыхнуть мелкой ссоре, как попрекнула:
— Зря со мной водился-то… Лучше было б мне за матушкой вослед.
Зерцалов, уйдя из дому, долго, дотемна, сидел тогда, разведя костер, на берегу речки. Хотелось куда-нибудь уехать, но куда? Кому он был нужен?.. И никак не ожидал, что мог Марии так опостылеть. Любил ли сам ее?
К той девочке, в горячке беспомощно разметавшейся по кровати, пробудилось чувство, но, когда он решил опекать семью расстрелянного им человека, остаться с ней, исполнение долга возобладало над всем. Даже заглушило ощущение вины… Поначалу он втайне гордился своим поступком, и ему не могло придти в голову, что через несколько лет он может оказаться просто-напросто лишним.
Василий посмотрел на насупившийся за речной излучиной в подступавшей темноте вековой ельник, вздохнул, пытаясь отогнать мрачные мысли. Теперь вот, не по один год, не бродил в чащобе, не искал каменного креста, безымянной могилы. Не желал, видно, преподобный Григорий место указать. Или время еще не приспело?..
Вернувшись, Василий в избу не заходил, лег в сенцах на постель из соломы и, не успел глаз сомкнуть, как раздался требовательный стук в дверь.
— Зерцалов? Собирайся!
Ввалившиеся мужики в штатском перевернули вверх дном все в доме и втолкнули Василия в «воронок», оставив растерянную и перепуганную Марию.
В камере Зерцалов заметил, что к нему постоянно присматривается один из арестантов со смуглым изможденным лицом со следами побоев. Пристальный взгляд черных печальных глаз преследовал Василия всюду. Арестанта чаще других выводили из камеры, надолго, и, приведенный обратно, он забивался сразу в дальний угол, тяжко вздыхал, заходился в захлебывающемся чахоточном кашле и, когда отпускало, стонал негромко. И опять искал взглядом Зерцалова.
Ночью, наконец, подобрался к нему и зашептал на ухо:
— Признал я тебя, Василий. Никак не думал, что ты живой. Яков я, Фраеров! Забыл?
Яков закашлялся, и Зерцалову, обеспокоенному и растерянному, пришлось терпеливо ждать конца приступа. Радости от встречи он что-то не испытывал.
— Из виду я тебя потерял. Чаял тогда, у креста-то Григорьева, тебе пулей насмерть отрикошетило. А тут, еще до ареста, случайно услышал: жив, здоров и в тех же краях проживает. Ну, думаю, воскрес. В Бога не верил, а тут поневоле верить начал. Сберег тебя Григорий-заступничек!.. Я вот чего тебе скажу и никому другому… — Фраеров в душной полутьме камеры закрутил головой, заозирался, прислушиваясь к храпу и сонному бормотанию сокамерников. — Чую, не сегодня-завтра шлепнут меня! Не нужен стал, — он зашептал еще тише, Василий еле угадывал его слова. — Не охота уносить с собой… Я тут не в одной камере сидел, сволочей и своих краснозвездных и чужих-ваших простукивал да под «вышку» подводил. Добровольно на это пошел, едва арестовали. Не виноват я!.. — Фраеров пристукнул кулачком в грудь и опять зашелся в кашле. — Но вместо свободы и наград забивать еще пуще стали. Я теперь всех оговариваю — и виноватых и правых… А ты, раз выжил, живи дальше, нет ничего на тебе. И еще один грех на мне — дядюшку твоего, заложника, в первую же ночь расстрелял.
Фраеров неприятно задрожал мелким смешком.
Читать дальше