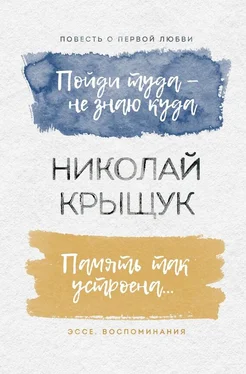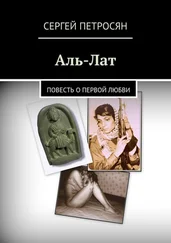«Она не любит и никогда не любила, больше: она не может любить, не умеет». Он, слепо и безрасчетно отдавшийся любви, и к себе иногда обращает подобные упреки, но в ней и слепоты этой нет, определенно – слишком сознавала себя. В качестве главной героини драмы. А потому он мог, например, застать ее «томящейся от обид Артура – получила новые доказательства его измен». Тут бы самое время вступить и его гордости. Но она во всем опережала его по крайней мере на шаг – сама заговорила о разлуке. На его вопрос, почему хочет расстаться, ответила стихами Мандельштама: «Эта (показала на себя) ночь непоправима, а у Вас (показала на него) еще светло».
Что оставалось ему? Думать, что сам мало любит, если все еще хранит дом. С другой стороны: «Если бы даже в состоянии был разрушить дом, ничего бы не спасло; ну, на год пришла бы, а потом ушла бы все равно. Правильно сказала, если бы по-настоящему любила, никакие формы жизни не мешали бы разрушать. Не любит. Нет, не любит. Как жить, чем жить».
У безоглядно влюбленного из всех инструментов – одна дудка: однообразен и беззащитен. У режиссера любви во владении целый симфонический оркестр, в котором есть инструменты, способные извлекать и лукавую, и обидчивую, и злую, и простодушную мелодию – всегда безошибочно. Ахматова: «Я тебе не могу простить, что дважды ты прошел мимо: в ХVIII веке и в начале ХХ». Будь они в равном положении, тут же ответил бы на игру игрой, которой в других ситуациях владел превосходно. Но тут… «Как, действительно, случилось, что в Царском мы не встретились, когда еще были в гимназии… В 1890 г. осенью мы, может быть, тоже встречались в колясках в Павловском парке – мы тогда постоянно жили в Павловске; Ан., если она верно высчитала, тогда привезли в Павловск, и они жили там до Рождества, ей было несколько месяцев». Готов уже себя чувствовать чуть ли не виноватым.
А ведь у нее был и еще один, главный инструмент – стихи. В стихах же, как известно, все правда, вся правда, высшая. Даже если не узнаешь себя, смирись – это ты. Как, например, в этих:
Я пью за разоренный дом,
За злую жизнь мою,
За одиночество вдвоем,
И за тебя я пью, —
За ложь меня предавших губ,
За мертвый холод глаз,
За то, что мир жесток и груб,
За то, что Бог не спас.
Решение разрыва принадлежит, конечно, тоже Ахматовой. 30 июля 1936 года Пунин записывает в дневник: «Проснулся просто, установил, что Ан. взяла все свои письма и телеграммы ко мне за все годы; еще установил, что Лева тайно от меня, очевидно по ее поручению, взял из моего шкапа сафьяновую тетрадь, где Ан. писала стихи, и, уезжая в командировку, очевидно, повез ее к Ан., чтобы я не знал.
От боли хочется выворотить всю грудную клетку. Ан. победила в этом пятнадцатилетнем бою».
Спустя годы, в его присутствии говорила о своем новом спутнике Гаршине, которым вскоре будет жестоко оставлена, подчеркнуто и артикулированно: «мой муж». Зачем, недоумевал Пунин, чтобы я ни на что не рассчитывал? Я и так ни на что не рассчитываю.
До конца его дней они, однако, продолжали друг друга иметь в виду, относились с нежностью и заботой, в трудные дни помогали. Так вела себя и Галя – до конца ее дней.
Упоение революционными перспективами длилось недолго, хотя Пунина и нельзя назвать человеком по этой части особенно проницательным. Но настроение той среды, в которой он жил и вращался, не могло не сказаться и на нем. Запись 1925 года: «Вечером был в одном доме в гостях; разговоры опять о наводнении; кто-то из угла говорит: „Что вы все так радуетесь наводнению, все равно большевиков не смоет“. За эти семь лет власть не приобрела ни одного нового сторонника, кое-кто приходил, но зато кое-кто и уходил, в среднем же в кругу тех лиц, где мне приходится бывать, оппозиция стала более плотной, твердой и значительно лучше обоснованной».
Здесь еще только констатация факта, зарисовка с натуры и никакого почти личного отношения. Его лояльность Советской власти никем пока не подвергается сомнению. Пунин преподает, руководит художественной частью Государственного фарфорового завода. Но буквально через несколько дней интонация меняется: «Нигде ничто не „вертится“, все стоит; мертвое качание, что-то зловещее в мертвой тишине времени; все чего-то ждут и что-то непременно должно случиться и вот не случается… неужели это может тянуться десятилетие? – от этого вопроса становится страшно, и люди отчаиваются и, отчаиваясь, развращаются. Большей развращенности и большего отчаяния, вероятно, не было во всей русской истории».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу