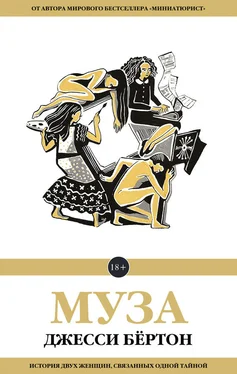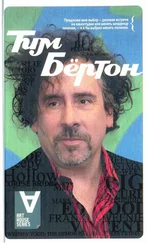Тереза вызывающе вздернула подбородок.
– Олив. И она лучше твоей.
– Олив?
– Она рисует каждый день. Ее пригласили в художественную школу, но она предпочла остаться здесь. Ты ведь ее про это не спрашивал, когда совал ей в рот свой язык?
Исаак сполз на стул и обхватил голову руками.
– О боже. Она подсунула свою картину.
Тереза покраснела.
– Это не она, а я.
– Ты? Но зачем?
– Не хочу, чтобы ты разбил ее сердце.
– Господи. Это все из-за одного поцелуя?
– Ты сюда пролез хитростью…
– А что сделала ты, притащившись со своим цыпленком в виде подношения, как какой-нибудь голимый индеец к Колумбу?
– Я им помогаю ежедневно. Без меня они бы пропали.
– Ты всего лишь служанка, а могла бы стать кем угодно.
– А от тебя одни неприятности.
– Сара Шлосс попросила меня написать ее портрет, что я и сделал. А еще, чтоб ты знала, Альфонсо прекратил финансовую помощь.
– Что?
– Ты слышала. Ему не нравится мой «политический запашок». Так что деньги Сары Шлосс позволяли нам держаться на плаву. Для меня это чисто профессиональная сделка, Тереза…
– И я должна тебе поверить?
– У меня есть дела поважнее, чем какая-то богатая guiri с ее слабостью к шумным вечеринкам.
– Это какие же, например? Палить из пистолета в церкви? Или задирать подол молодой хозяйке?
– Шпионка! Баламутка! – Он встал и злобно зашипел: – Ты пришла к этим людям, Тере, потому что тебе некуда было деваться. И так было всегда, с раннего детства. С таким-то папашей да с мамочкой-цыганкой… Так что не изображай тут передо мной святую. Думаешь, я не знаю, откуда у Олив это ожерелье? Мне все известно про твою коробочку, зарытую в саду. И что теперь? Что, спрашивается, мы будем делать?
– Ты признаешься, что это не твоя картина, – сказала Тереза, вся красная и основательно потрясенная, – и отдашь должное той, кто ее нарисовал.
– Нет, – раздался голос в дверях. – Ничего этого он делать не будет.
Олив тихо открыла дверь и слушала на пороге их разговор. Выражение ее лица было трудно прочесть. Она вся горела, но вот от чего – гнева, скорби или возбуждения – ни Исаак, ни Тереза ответить бы не смогли. Оба так и застыли в ожидании продолжения. Олив прошла в кухню и закрыла за собой дверь.
– Зачем ты это сделала? – спросила она Терезу.
У той на глаза навернулись слезы.
– Я хотела…
– Она хотела меня наказать, – оборвал ее Исаак. – Прошлой ночью она нас засекла у ворот. Этот маленький трюк – ее месть.
– Это не месть, сеньорита, – взмолилась Тереза. – Ваш отец должен был увидеть, какая вы талантливая, как вы…
– Это не твоя забота, – сказала Олив. – Тере, я тебе доверяла. Я думала, что мы подруги.
– Вы можете мне доверять.
– Каким образом?
– Простите меня, я не хотела…
– Теперь поздно, – вздохнула Олив. – Мы не можем устраивать здесь родительское собрание. Они что-нибудь заподозрят.
– Я им скажу, сеньорита, что я тут ни при чем, – встрял в их разговор Исаак. – Тереза не должна вводить в заблуждение ваших родителей, которые к ней так хорошо отнеслись. Тем более что моя картина готова. Сестра утром принесла ее сюда.
Олив стояла в задумчивости.
– Тереза, где его картина? Принеси ее.
Та молча ушла в кладовку. Они слышали, как она передвигает по кафелю бочки, и вот она вышла с большой картиной, поставила ее к стене и сорвала покров.
Олив молча ее разглядывала. Они с матерью были узнаваемы, только глаза затуманены и губы красные, как по предписанию. Вокруг голов непонятные нимбы, заурядно зеленый задний фон. Ни юмора, ни души, ни мощи, ничего необычного в цветовой гамме и линиях, никакой оригинальности и неуловимой магии. Ни намека на тайну, ни игры, ни истории. Нет, ее нельзя было назвать ужасной. Просто две женщины с рождественской открытки.
Олив покосилась на Исаака. Тот смотрел на свою работу, скрестив руки на груди, оценивая ее с серьезным видом. О чем он думает? Доволен ли сделанным? Считает ли ее хорошей ? В таком искусстве нет ничего плохого – в конце концов, разве всякое произведение должно быть интеллектуальным, а? Картина радовала глаз, вот только она была совершенно ученическая. У отца она бы вызвала отвращение.
В эту минуту до Олив дошло, что, при всех неудобствах долгого позирования, в глубине души ей хотелось увидеть талант. Так ей было бы легче. Видимо, недооценивала, насколько она дочь своих родителей. Всегда легче восхищаться талантом, а жалость – это путь к безразличию. Олив закрыла глаза, дабы снизить потенциальный урон от этой живописи, от бесталанности автора. Но посчитала, что Исаак не заслуживает презрения ее отца. Когда она снова их открыла, он вопросительно смотрел на нее. Она ему ответила лучезарной улыбкой.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу