— Но ты хранишь! — замечает Лиза, нахмурившись. — Болеешь этим прошлым, мучаешься им, но все равно продолжаешь беречь!
— Молодец! Именно так! В том-то и дело! — кивает Ворона. — Ты знаешь — это все надо выбросить! Не помнить! Не знать! Не позволять прошлому руководить твоими мыслями и поступками, но ничего не можешь поделать…
— Тебя тяготит, — снова добавила Лиза, — и влечет, скажем, Советский Союз…
— Хоть бы и он, — согласилась Марина. — Может быть, Османская империя, Византия, Рим. Возможно, времена казацкой вольницы, память о которых бурлит в твоей крови. Тебе невмоготу от этих шаровар, сабель, бубнов, табунов за твоим плечом, от криков соплеменниц-украинок, проданных в рабство на невольничьих рынках Средиземноморья, от смрада и стонов, исходящих от убитых турок, татар, цыган, евреев и поляков. Они ведь так и ходят за тобой из сновидения в сновидение последние три столетья. И вот тут приезжает некто на дребезжащем тарантасе и кричит неожиданно молодым и задорным голосом: «Ветошь! Тряпки! Покупаем тряпки! Ба-ра-хло! Ба-ра-хло!».
— Черт кричит задорным голосом? Он же старый?
— Он вечный! — улыбаясь, говорит Ворона. — Потому молодым и задорным! Он кричит свое «барахло», а у тебя все внутри переворачивается!
— Отчего же?
— Понимаешь, — задумчиво пожевала фильтр потухшей сигареты Марина Аркадьевна, — это слово только на письме выглядит просто и обыденно. На самом деле, невыразимо прекрасное барахло тягуче и пенно разливается по округе. Оно свежо и звонко, как майское утро, как лепестки диких яблонь и вишен, устилающие железнодорожный путь жизни, предстоящей самой себе! Бара-хло! Детство, юность, счастливое незнание того, что будет дальше. Родители молодые и здоровые. Тропинки между яблонями свежи и чисты.
— Но как это выглядит?
— Очень просто. По улице между домами медленно движется телега. Выкладывая на нее хлам прошлого, можно иногда выручить какую-то мелочь. Однако прожитая жизнь приносит устрашающе мало денег, — поджимает губы Ворона. — Поэтому чаще ее меняли на новенькие, не знавшие жизни вещи. На детские игрушки, мягкие прекрасные презервативы…
— Презервативы? — удивленно подняла брови Лиза.
— Да, именно, — подтвердила Ворона, — украинский черт всегда имел в телеге заграничные презервативы, и это, безусловно, способствовало развалу Советского Союза сильнее, чем все диссидентское движение вместе взятое. Сначала кондом, а потом уже Солженицын. Но речь и не об этом тоже. Что еще имелось на этой телеге? Много чего. Чай черный байховый, «Королева Марго», церковные свечи, «Протоколы сионских мудрецов», кожаные итальянские туфли — сорок второй размер, «Три мушкетера», молдавский «Кагор», рыболовная леска производства ГДР, французский коньяк, пиво «Жигулевское» — четыре бутылки, бронзовые, увесистые, хотя и топорно сделанные, канделябры, пресс-папье, наливные авторучки, прищепки, венгерская резина, клей, красная гуашь. В холщовых мешках сахар, соль, спички.
Старые вещи охотно меняли на новенькие веники, чтобы мести ими дом. Веники были холодные и желтые, а вещи, оставляемые старьевщику, — жалкие, мятые, часто изъеденные молью и непрестанными квантовыми скачками. Но старьевщика нисколько не смущало это обстоятельство. Он собирал прошлое в мешки, не гнушаясь ничем. Служитель смерти, рабочий сцены Театра полураспада, философ и торгаш.
— Ты рассказываешь страшные вещи, — заметила Лиза.
— Скорее, печальные, — возразила Ворона. — Но давай вспоминать дальше. Что лежало на телеге старьевщика в разные годы?
— А что, ассортимент менялся?
— Да, от месяца к месяцу, от эпохи к эпохе. Хорошо бы подробно описать, что за граждане подходили к телеге, что именно оставляли на ней и что, улыбаясь улыбками людей, сделавших удачное приобретение, относили в свои жилища. Стоило бы, вероятно, кому-нибудь из тех, кто не знал разочарований и потерь, подытожить все это. Оглянуться, приосаниться, но тут же и загрустить. Сплюнуть вязкой похмельной слюной в грязноватый тающий снег, закурить, внезапно заплакать. Кто-то должен создать список вещей, достойных упоминания, и перечислить их в правильном порядке, который бы сам по себе, как список кораблей, приоткрыл бы завесу непознанного. Нужно разодрать холст смерти и залить его желтой акварелью вечной памяти, светом, текущим из сияющей пустоты в наши несчастные, в сущности, жизни…
— Ты отвлекалась, — немного подумав, сказала Лиза. — Расскажи, каков был черт из себя?
Читать дальше
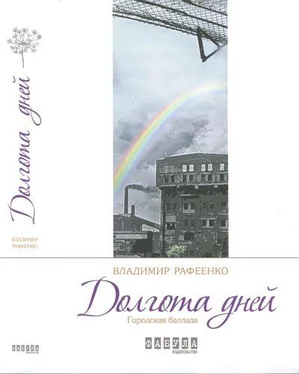

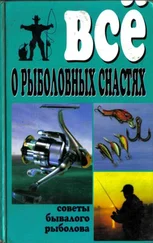

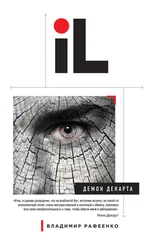
![Владимир Рафеенко - Московский дивертисмент [журнальный вариант]](/books/182775/vladimir-rafeenko-moskovskij-divertisment-zhurnal-thumb.webp)




