— А ну-ка, принеси вон тот.
Второй тоже из дерева. Государь усмехнулся и взял оба.
— Свезу домой.
Рассматривая грибы, он, не поворачивая головы, спросил:
— Что тебе предсказал Перен?
Это было как выстрел в упор. Язык у Дондуа прилип к гортани.
— Я… Ваше величество… Это была глупость…
— Почему же глупость? Не понимаю.
— Я хотел знать, не случится ли со мной несчастья… Я был взволнован сном.
— Сном? Ну-ка расскажи. Что за сон?
Император сел на деревянную скамейку, приготовившись слушать. Сбиваясь и срываясь с голоса, Дондуа рассказал, как во сне видел себя в просторном зале, как одна из стен зала вдруг разверзлась, и снаружи, озаренная странным светом, стала надвигаться голубая скала.
— И потом?
— Это было так страшно, ваше величество, что я проснулся…
— Интересно!.. Очень интересно!.. — шептал император губами белыми, как папироса, которую он вынул из портсигара, чтобы закурить.
Наутро, перед самым отъездом, с графом Фредериксом случился легкий удар; он побледнел, впал в беспамятство, а когда очнулся и пытался ходить, правая нога подогнулась и не держала. Лейб-хирург Федоров ничего опасного не нашел, но прописал постель и полный покой.
— Вы бы ему прописали, Сергей Павлович, полное освобождение от службы, — пробурчал Нилов. — Жаль, конечно, старика, но ведь и государя надо пожалеть. Это не шутка — держать в такое время министром двора человека, который, глядя за обедом на поданную грушу, спрашивает, что это за овощ?
— Ну, это пустяк.
— Пустяк? А вы забыли, как он в Ревеле, сидя в комнате, воображал себя в каюте на «Штандарте» и все спрашивал, скоро ли будет Ливадия? Этак не сегодня-завтра он себя капитаном Куком вообразит.
Адмирал Нилов покидал Ставку с хмурым видом.
— Не будет добра от этого места.
— Что такое?
— А вот что. Пришел я с визитом к начальнику штаба, сижу, разговариваю, а нога у меня, смотрю, в грязи. Простите, говорю, не заметил. А он — «не извольте беспокоиться», кликнул денщика и отправил меня с ним в свою туалетную. Ну, знаете!.. Пока денщик чистил мои сапоги, я глядел и не мог наглядеться на генеральский будуар. Флаконы с духами, туалетные воды, эликсиры, помады… А ножниц, щеточек, напильничков для ногтей!.. Даже пудра стояла на полочке перед зеркалом. Вот уж подлинно боевая обстановка!..
Все знали, что Янушкевич — салонный генерал и «стратегическая невинность», но духи и пудра!..
Другим предметом адмиральского негодования было помещение для телеграфных аппаратов, упрятанных в бывшую прачечную с земляным полом — тесную, темную, вонючую, без печей. Отсюда шли распоряжения по всем фронтам и армиям.
Когда генерал-квартирмейстер приходил, чтобы говорить по аппарату, а говорил он иногда два-три часа, все, кроме телеграфиста, должны были выходить вон при любой погоде. Часто мокли под дождем. По два раза приходил верховный главнокомандующий разговаривать со своей женой, проживающей в Киеве.
В разговорах с телеграфистами у адмирала родилось подозрение, что текшая конура с земляным полом сыграла подозрительную роль в дни самсоновской катастрофы.
А у поручика Дондуа из головы не шла серая солдатская шинель царя. По иллюстрированным журналам видно, что ни император Вильгельм, ни император Франц-Иосиф, ни король Альберт, ни король Георг не увлеклись демократическим маскарадом. Только самодержец всея Руси пошел в народники.
Министерский стол Сухомлинова, как снегом, заносило телеграммами с войны. «Бой напряженный по всему фронту. Расход патронов необычайный, — писал Янушкевич. — Пехота не нахвалится работой нашей артиллерии, но за недостатком патронов пушки выдыхаются. Шестнадцатидневные и двадцатидневные бои поглощают все припасы».
Министра брал иногда под защиту англичанин Нокс, уверявший, что не одни русские, но и союзники не предвидели умопомрачительного расхода боевых припасов. Прежде за годы не расстреливалось столько патронов, сколько теперь за неделю.
Толки о снарядах и о Сухомлинове лишили русское общество радости галицийских побед. После великой семнадцатидневной битвы вся восточная Галиция, вплоть до Сана, оказалась и русских руках. Миллионная австрийская армия если избежала полного разгрома и пленения, то получила неизлечимую рану и не могла больше обходиться без постоянной германской помощи. Но галицийские успехи меркли в сознании внутренней слабости и неустроенности. Умы и души отравлялись самым опасным из медленно действующих ядов — неверием в свои силы.
Читать дальше







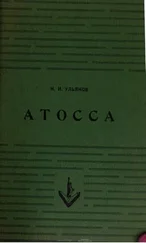

![Георгий Смирнов - Город Сириус [litres]](/books/400159/georgij-smirnov-gorod-sirius-litres-thumb.webp)

