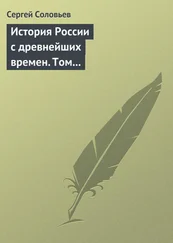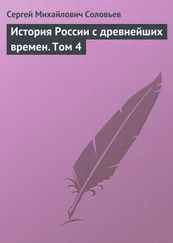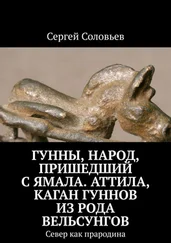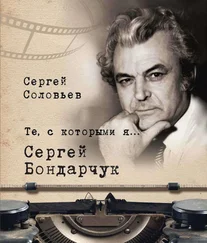Эта была самая медленная ночь в нашей жизни.
Мы лежали на берегу, невдалеке от еще курящегося шамшана. Триста килограмм дерева, немного алоэ, сандала, одно тело, и совочек пепла, струящийся в воду.
Слова, оставившие нас, стояли в черном чужом небе мелким моргающим дребезгом звезд.
Медленно, медленнее ударов сердца, медленнее дыханья камней мы вглядывались друг в друга, закрыв глаза; вглядывались ладонью, кожей, виском.
Господи, помилуй меня, где же я был всю эту жизнь до себя, до Тебя, до этой дрожащей, жалобно жмурящейся ладони ее на моих губах.
До этой рощицы влажного света ее волос.
До этого олененочка губ ее, Господи, даже если бы Ты ничего не создал, кроме этого теплого чуда.
До ресниц ворожбы, до глубинного пения крови, до свеченья ее чернецов.
До глухой расступившейся тьмы для серебряной дрожи ее плавной излучинки тела.
До расплета его, до меня в немоте междуречья.
До ужаленного хребта между святостью и святотатством.
До близи покрова, до лунных раздвинутых зарослей схимы,
до узкого росного лаза в трепещущих отблесках - до...
До этого слова - последнего и одного на двоих нас - до ты.
До ты наплывающих волнами тел,
до ты отбегающих вниз отражений,
до ты пузырьков, восходящих со дна темноты, немоты, пустоты...
До этой маленькой, удаляющейся лодочки, плывущей в уже светлеющем небе; лодочки - в четыре медленных, медленнее ударов сердца, весла;
и еще два - в небо опущены за кормой;
и еще два - сушатся, подрагивая над нею.
Шли дни, спиною вперед шли. Двое осталось, как нас двое. Молча. То есть, конечно, мы говорили, но тише, и в стороне от себя. От нас. Чем дальше, тем лучше.
На воду смотрели. На тот ее берег. Казалось, каждое дерево, каждую ветвь на каждом, не глядя, могли повторить, продвигаясь под лыком их медленно и тягуче, как сон.
Вон там, под орехом, отсюда незримый, лежит, не вставая, баба, лежит на спине с запрокинутой головой - говорящей. И смуглая белка с тлеющими подпалинами сидит перед его продубленной неподвижной ступней: то воткнется остреньким личиком в глухую канавку под пальцами, то отпрянет, обескураженная, с распушенным столбняком хвоста.
Мы тоже лежим под деревцем, пробравшимся на цыпочках почти к самой воде. 48 - в его тени. Пуджимся то и дело, на перехват дыхания. Я хлещу воду текучими пригоршнями, стоя по пояс, едва удерживая себя в потоке.
Индия для индуса, как сказал тот же Вивекананда, это священная Ганга и Гита.
Гиту на днях перечитывала Ксения. Я не смог. Видимо, я для нее слишком испорчен, с головы начиная. То, о чем мы с Амиром спорили. То, что прежде меня так отваживало от Индии, по недоумию. Этот приторный кич - повсюду, во всем, куда глаз ни ляжет. Как же это соседствует с безднами вед, струйным духом аскетов, стоящих в небе, как жаворонки на воздушных струях?
И не просто соседствует, а - закадычно, в обнимку.
Но именно благодаря этой, иллюзорной, конечно, и тем не менее бесконечной баньянной обнимке верха и низа, внешнего с внутренним, прошлого с будущим, мифа с реальностью, нового опыта с предшествующим; благодаря этому шрути-смрити как вселенскому тутти-фрути Индия и сохранила себя, не замутнив во времени ни целомудрие глубины, ни - прикрывающую ее поверхность, льнущую к ладони и обкатывающую хрусталик.
Сат, чит, ананда. Бытие, сознание, радость. Одним словом звучит: Бог.
Входили мы в эту священную текучую книгу поочередно (индусы называют священные книги мандалами), и выходили, облепленные сверкавшими буквицами капель, стекавшими на песок.
Счастлив тот, говорят индусы, кто омылся в Ганге, постригся в Праяге, а умер в Варанаси.
Паломничество от истока до устья занимает шесть лет.
Оканчивающий свою жизнь погружением в Гангу обретает вечное блаженство. И такая смерть освящена традицией, не являясь буквальным самоубийством, как и уже отошедшее в прошлое сати - самосожжение вдов на погребальных кострах мужей.
В одном из преданий житель Калькутты приходит в глухую деревню, расположенную на другом конце света от Ганги, и в доме, где он остановился, ему наливают кринку молока, смешанного с пеплом умершего сына хозяина - чтобы хоть пепел впитался в кровь, сливаясь с каплями Ганги.
На шее у Ксении просыхали бусики-четки из священного дерева тулси, 108 пупырчатых шариков цвета какао с нежно-розовым отсветом. Подаренные ей Амиром, вместе с томиком Ригведы, лежащим открытым, обложкой кверху, на ее груди.
Я сижу рядом, очищая манго, и, протягивая ей ломтик, говорю: Брахман, удерживаешь ли ты в памяти Ригведу?
Читать дальше