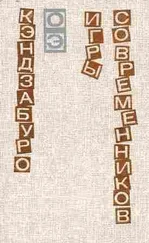И эти типы едут в Сугиока! Ну и разговорчики, — подумал я, но, поразмыслив, решил, что эти спекулянты сольются с обликом улиц Сугиока. По сожженным улицам города снуют спекулянты. А в горах Сирояма спокойно ждут своего часа мужественные люди, готовые к боям и смерти. Когда в городе раздастся первый винтовочный выстрел, эти спокойные солдаты растопчут спекулянтов.
Кан с жаром рассказывал мне о партизанах на севере Кореи. У них в корейском поселке об этих партизанах слагали легенды. Их победа кружила головы местным корейцам. Но у них в поселке головокружение быстро прошло, все как одержимые бросились спекулировать рисом. «Но я все равно уеду в Корею. Не знаю когда, но уеду. И вступлю в их армию. То, что мы с тобой сейчас делаем, для меня лишь подготовка к этому, верно?»
Я с улыбкой кивнул Кану, но в глубине души думал по-другому, снисходительно, как умудренный годами старик: «Кан, я, скорее всего, погибну в сражении. Я даже сам хочу умереть в бою, поэтому и вступаю в армию Сугиока. Я хочу умереть. Только умерев, я обрету счастье. Ведь я сын Его величества императора. Но ты, Кан, возвращайся в Корею, вступай в их армию — она обязательно будет сражаться с американцами. А если тебе будет угрожать смерть в Сугиока, я с автоматом в руках защищу тебя. Кан, правда, возвращайся в Корею. Сегодня утром я думал, как прекрасен мой край, и ты, конечно, тоже думаешь, как прекрасен твой край — Корея».
Спекулянты достали из жестяной коробки сухой спирт, вынули из мешка свиные потроха, нанизали на вертел и прямо в вагоне стали жарить потроха и пить самогон. Стало жарко и душно. Но мы с интересом наблюдали, как они едят и пьют, и хохотали. В нашей деревне, где большинство жителей все делали с оглядкой, а над любителями выпить издевались, такого пиршества я ни разу не видел. Добродушный лысый человек в резиновых сапогах и брезентовой куртке, точно у него водобоязнь, повернулся в нашу сторону и сказал:
— Эй, ребята, нате-ка, выпейте, — и протянул нам захватанный жирными пальцами толстый стакан.
Мы с Каном засмеялись и с интересом глотнули отвратительное вонючее пойло. Оно обожгло нам глотки, и мы взвыли. Спекулянты дружно смеялись. Я тоже смеялся, утирая слезы ладонями, и думал: «Дав нам эту вонючую водку, они признали, что мы с Каном уже не дети». И это наполнило меня гордостью. А Кан, еле отдышавшись, недовольно заворчал:
— Фу, чертова сивуха. У нас ее гонят из батата… На продажу. Чертова сивуха. Наши ее никогда сами не пьют. Только на продажу гонят.
Пить эту гадость и правда было невозможно, но жареные потроха, которыми угостил нас лысый спекулянт, оказались вкусными, а может, потому, что мы проголодались. А спекулянт, глядя, с каким аппетитом мы едим, удовлетворенно сказал:
— Нашему брату приходится смываться от контролеров. Как попало прыгаем с поезда. Неудачно соскочишь, приложишься брюхом, и готов. А вы, наверно, думаете: что, мол, за народ, потроха жрут. Эх, ребята, только бы в живых остаться. Этой зимой, говорят, восемьдесят процентов японцев с голоду помрут! Если эти восемьдесят процентов изжарить, остальные двадцать живы останутся. Вот так-то! И придется вам не такие потроха жрать — курятинкой они вам покажутся. Ешьте, ешьте. Давайте лопайте!
Вагон был наполнен запахом жареных свиных потрохов, запахом самогона, людей, до отказа набившихся в него. Пьяных тут же рвало. Но все были довольны и веселы.
Поезд прогрохотал по мосту. Мы въехали в город Сугиока. Спекулянты, не доезжая до станции, стали выбрасывать свои мешки в окна. Их дружки, наверно, ждали поезд. И, если вместо мешка риса им выбросят человека, они, наверно, и его зажарят с потрохами. Мы с Каном, с трудом подавляя тошноту, поднялись и из-за спин людей, которые, стоя в ряд у окон, выбрасывали свои мешки, стали смотреть в окно. Мы увидели целый лес телеграфных столбов, торчащих из бурой загаженной земли, и скелеты зданий. Это был сгоревший лес и разрушенные, разбитые здания. Горячее солнце нещадно жгло все это, давно сгоревшее. Пропитанный гарью ветер водоворотами пыли, застилавшей солнце, бешено мчал по пустырям. Это носились призраки, чтобы, обезумев от жары и жажды, пожирать людей. Медленно бродили окровавленные духи погибших, а рядом с ними рыскали тощие собаки, и выло чудовище. Мы с Каном задрожали от страха. Но это был всего лишь гудок нашего паровоза, сообщавший о прибытии на станцию Сугиока. Картину ада, которую я видел однажды в злополучный весенний день в полутемном помещении нашего деревенского храма, сейчас мне пришлось увидеть снова воплощенной в сожженных улицах города. Присмотревшись, можно еще было увидеть множество временных лачуг там и тут, как мушиные яйца прилепившихся к кирпичным развалинам. Улицы сохранились. На них люди. Куда-то спешат, останавливаются. Бродят собаки. Во мне разлился холодной водой мрачный омут, а мое захолодавшее сердце бешено забилось. «О Ваше императорское величество, сделайте так, чтобы после смерти я не попал в ад. Я боюсь ада. Я боюсь ада. Ваше императорское величество, сделайте, чтобы не было ада, чтобы после смерти не было ничего! Если только мне суждено погибнуть, если только мне суждено погибнуть смертью храбрых», — молил я. Я еще ничего не видел, и невыносимо, когда по адской пустыне за тобой гонятся дьяволы. Я вспомнил картину ада — там мальчика моих лет двое чертей толкли в каменной ступе, и пачкая все вокруг, брызжет во все стороны его кровь и мозг. Я не могу забыть этой картины. Из мирного леса, наполненного животворным запахом густой, свежей зелени, солнечным сиянием, мы с Каном спускаемся на самое дно ада, в пекло борьбы. И в этот ад, где полыхает война, мы прибыли поездом. Война в моем сознании утратила розовое сияние и выпачкалась в бурой грязи. Но мы все равно будем воевать. Будем мужественно сражаться, и я, наверно, погибну. Так пусть же рассказы о настоящем аде окажутся ложью. И пусть все кончится для меня в тот миг, как я паду в бою смертью храбрых.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу