Когда Гавриэль сказал жене доктора Ландау, что вторая чашка кофе, которую он пьет на завтрак, определяет его расположение духа на весь день, она сочла, что он смеется над нею. Свои мысли он начинал настраивать еще прежде, завершая утреннее омовение, отделявшее мир сна от мира яви и позволявшее ему сосредоточить все силы, не путаясь и не сбиваясь, на проблеме, которой он собирался заняться, и, приступая к питью кофе, он уже бывал в нее погружен. Иногда он прислонял к сахарнице свою малого формата Библию и заглядывал в нее за кофе, а иногда — какую-нибудь другую книгу, даже одно из медицинских пособий времен своих парижских занятий. В особенно хорошее утро он не нуждался вовсе ни в каких книгах, а смотрел на птиц, порхавших среди деревьев у ограды, или на вылизывавшуюся на крышке колодца кошку, или на держащего в пасти царский жезл молодого льва с фриза над воротами эфиопского консульства, над абиссинской надписью: «Менелик Второй, Царь Царей Эфиопии, потомок Льва Иудеи».
Если внезапное озарение посещало его мысли, он торопливо записывал пару слов на пачке сигарет, чтобы вернуться к ним уже за полночь после ночной прогулки, бодрым и сосредоточенным, обращаясь в окружении тишины спящего мира к своим большим, похожим на бухгалтерские книги тетрадям, дабы облачить в одеяния современных слов плоды утренних прозрений, следовавших за второй чашкой кофе, добавляя несколько строк к уже написанному. Эта тонкая линия, тянущаяся от утреннего сосредоточенного размышления к считанным фразам, которые он добавлял после полуночи к записям своих комментариев, несла свет, радость, смысл и наполнение целому дню и всему, что встречалось на пути.
Если, как уже говорилось, никто не мешал ему выпить вторую утреннюю чашку кофе, если ни одна из тысячи помех, поджидающих нас по утрам, чтобы вывести из себя, не настигала его посреди глотка и ему дано было вытянуть кофе до последней капли и увенчать питье сигаретным дымом, он, сам того не замечая, начинал от удовольствия что-нибудь напевать, убирая со стола ту самую вторую, судьбоносную кофейную чашку, определившую его настроение на целый день, и подготавливая тот же стол к процессу бритья, ибо, как мы помним, Гавриэль брился сидя, подобно своему отцу, старому беку, мир его праху, а в погожие дни предпочитал бриться на балконе, на свежем воздухе.
Если утреннее омовение между двумя чашками кофе было водоразделом, плотиной, сооруженной для того, чтобы последние волны сна не прорвались и не затопили бы просыпающийся континент, бритье уже целиком находилось во владении дня, и в радости моих пробуждений тем летом на улице Пророков я каждое утро ждал четкой тени и громкого голоса Гавриэля, усаживавшегося в красное бархатное кресло и раскладывавшего перед собою на трехногом железном столике бритвенные принадлежности. Я знал, что к нему уже можно подойти, и, вскакивая, бежал на балкон не только для того, чтобы научиться у него необычным песням на самых разных языках и послушать истории о том. что происходило с ним в дни детства и в прочие дни, но и просто затем, чтобы посмотреть, как он бреется. Поскольку во время бритья он сидел спиной к балконной ограде, уличный подъем, в том месте, где от улицы отходит Абиссинский переулок, отражался в верхнем углу его зеркальца, и таким образом, бреясь, он мог наблюдать и комментировать происходящее на этом всемирном перекрестке у себя за спиной.
Каждое колебание, даже самое легкое и неуловимое, вызывало целый переворот в отраженном пейзаже за его головой, ничуть не изменяя его собственного, покрытого мыльной пеной лица. В одно мгновение все исчезало и голова Гавриэля одиноко парила в пустоте ясного неба, а в следующее — люди начинали входить и выходить из дверей кафе «Гат». До тех пор, пока не остановилась машина старика судьи и шофер Дауд ибн Махмуд не выскочил из нее, чтобы выпить чего-нибудь в свободное до окончания судебного заседания время, пока не промелькнули абиссинские монахи, похожие на черные свечи на фоне каменной ограды, а глазной врач, доктор Ландау, не выглянул в окошко перед тем, как отправиться в клинику.
— Боже правый, как он постарел, как постарел! — сказал Гавриэль, увидев отразившегося в зеркальце доктора. — А у него все еще есть силы кричать в клинике после двух срочных ночных операций. Когда я был мальчишкой, я знал и чувствовал, что этот великий крикун — чудный человек, добрый и любящий детей, и все-таки поход к доктору Ландау пугал меня больше всего на свете.
Читать дальше
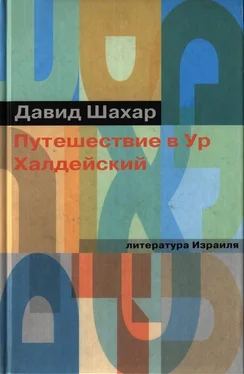
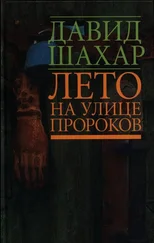
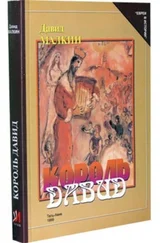



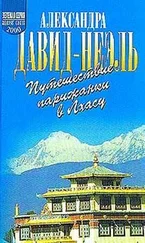
![Тал Бен-Шахар - Управление без власти и контроля [litres]](/books/412485/tal-ben-thumb.webp)



