Долго присматриваясь к ее отцу, Срулик обнаружил еще одно чудо в перекличке отцовских и дочерних черт, некий абсурд, углубивший в нем убийственное ощущение, что все держится только на неуловимой игре противоположностей. Лицо судьи он стал узнавать, посещая заседания суда в надежде, что встретит там ее, выходящую из отцовской машины или садящуюся в нее, и даже безо всякой надежды, просто стремясь находиться вблизи того, кто занимает какое-то место в ее жизни, или хотя бы услышать ее фамилию. Он сидел в публике и вглядывался в эти суровые и замкнутые черты, оставившие свой отпечаток на внешности Ориты, и чем лучше он их узнавал, тем яснее становилось ему, что на лице судьи проглядывает большее благородство, чем на лице дочери, что грубые и резкие черты создают более возвышенный облик, чем их красивая и нежная копия. Или вдруг ему казалось, что непроницаемость лица судьи скрывает и оберегает нечто выдающееся по своей тонкости, чисто духовное, в то время как открытость лица дочери излучает плотский порыв. Вместе с тем он сознавал, что его влечет именно к этому излучению земного начала, к трепетанию чувственного духа, которым веяло все ее существо — ее тело, ее движения, ее манера говорить и тембр ее смеха. У нее было тело танцовщицы, более полное в бедрах, чем в груди, с длинными стройными ногами. Она даже обучалась некоторое время танцам у Эльзы Ревлон, балерины современной школы, прибывшей тогда из Германии, и это еще более усилило упругость литой цельности в любом ее жесте и в любой позе, принимаемой ее телом.
Орита, конечно, не знала, какое землетрясение производит в сердце оного маленького Срулика каждое движение ее бедер, каждое подрагивание ножки, опирающейся на перекладину стойки бара, когда она переговаривается с хозяином кафе «Гат» или еще с кем-нибудь, случайно оказавшимся там в этот час, каждая волна дыхания, пробегающая по ее груди, каждый поворот шеи, открывающий мочку уха, каждый оттенок смеха из ее уст, каждый взмах ресниц одного из ее глаз, отражающегося в окне, каждая вспышка казнящей или милующей улыбки. И поскольку она этого не знала, то не могла и никоим образом вообразить, сколь титаническое напряжение, сколь колоссальные душевные силы требуются от него, чтобы она продолжала не знать, чтобы не проведала, не почувствовала, не заподозрила и не уловила даже малейшего намека на происходящее в его сердце. И все это от страха. Не от страха быть опозоренным, ибо ему было уже все равно. Он уже был готов на все, и не только был готов, но и мечтал сделать все ради нее и по ее велению, стать вечным посмешищем и позорищем, только бы она позволила ему находиться подле нее. Ужасный этот страх был страхом быть приговоренным к сокрытию лица и изгнанию [16] Сокрытие лица Бога от Его народа и изгнание евреев из Земли Израиля — две кары, ниспосланные Всевышним на Израиль за его грехи.
, мрачная угроза того, что в тот самый миг, когда Орита это почувствует, она немедленно отправит его к дьяволу вместе с Янкеле Блюмом, Янкеле Тальми и всеми прочими бедолагами, увивавшимися за нею против ее воли.
Срулик ощущал это инстинктивно и получил тому подтверждение в одном ее замечании по поводу «таракастых таракашек, которые силятся быть насильниками», сделанном ею после того, как она отправила доктора Тальми ко всем чертям. Более того, встав на ее место и взглянув на все это ее глазами, он убедился, что у нее не было иного выбора, кроме как прибить оное насекомое и смыть его труп в канализационную трубу, чтобы оно перестало, наконец, вызывать ее омерзение. Вот ведь до тех пор, пока Тальми не начал увиваться за нею, он был для нее просто одним из тех людей, которые приходили к ее отцу, одним из приходящих и уходящих, ничего не прибавлявших и не убавлявших в ее жизни, этаким относительно молодым и способным умником, иногда даже говорившим занятные и мудреные вещи за обедом. Но с того момента, как он начал за нею волочиться, Тальми превратился в таракана, и это совершенно естественно. Он вдруг заставил ее переключить внимание с того, что он говорит, на говорящего, а этот самый говорящий во всем своем естестве не мог не показаться ей «таракастым таракашкой, бледненькой букашкой». Два пучка волос, развевающиеся с двух сторон плеши, словно пара тараканьих усиков-антенн, и все это хрупкое тело без костей, и эти хилые бессильные руки, безостановочно разводимые в стороны, словно немощные тараканьи крылышки… И вот (вы только поглядите!) этот самый таракан приближается и лезет к ней со своими усиками-щупальцами, шарящими во всех направлениях, и со взмахами своих обкорнанных крылышек и начинает выделывать перед нею нелепые ужимки, представляющиеся ему полными очарования, скрипит и стрекочет ей в уши любовные речи и совершенно серьезно собирается (ой, какая пакость и какой кошмар!) не более не менее как обладать ею и, как он написал ей в этой кошмарной записке, «любить ее вечно и бесконечно». Она пытается скинуть его с себя, но козявка не отчаивается, а лезет опять и уже тянет к ней свои липкие ковыляющие и заплетающиеся ножки, и если она ее немедленно не прибьет; то этот ад вот-вот затянет ее и будет окружать «вечно и бесконечно».
Читать дальше
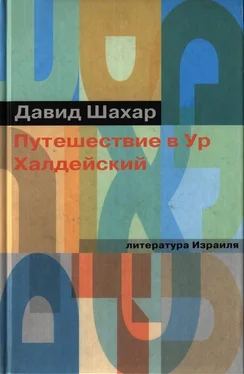
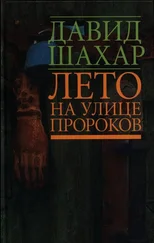
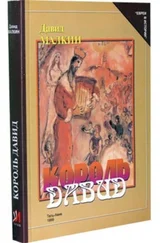



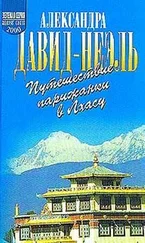
![Тал Бен-Шахар - Управление без власти и контроля [litres]](/books/412485/tal-ben-thumb.webp)



