Мысль о необходимости поспешить и вызволить из рук бабушки все то, что она награбила у мамы, просыпалась вместе с ним ежеутренне, когда он торопился вскипятить воду на керосинке. Кипячение воды на керосинке для утреннего кофе вошло у него в плоть и кровь и продолжало бурлить в его крови на протяжении всей жизни, до самых последних лет, когда уже и памяти не осталось ни о керосинке, ни о примусе. Не менее двадцати минут проходило с момента зажигания фитилей до тех пор, пока маленькая порция воды, равная двум чашкам, доходила до точки кипения. Посему он бросался к керосинке в тот же миг, когда глаза его открывались навстречу новому дню, и только после этого делал все остальное — умывался, одевался, собирал сумку, готовил ломтики хлеба для десятичасового бутерброда и возвращался к керосинке прислушаться, не поднимается ли в кофейнике чудное, желанное урчание кипящей воды. Этот инстинктивный утренний бросок остался в его членах и ничуть не изменился даже много лет спустя, и тогда, когда электрочайник занял место керосинки, и тогда, когда он уступил место газовой плите, на которой вода вскипала в считанные минуты. И если в годы учения, боясь опоздать на первый урок, он возвращался к керосинке слишком рано, обнаруживая, что вода только-только начинает чуть слышно запевать и еще далеко до пузырьков, то в дальнейшем зачастую возвращался с опозданием к чайнику, успевавшему выкипеть. В последние годы жизни, открывая глаза рано поутру и больше не бросаясь к огню, он нетерпеливо кричал жене: «Паула, поставь наконец воду кипятиться!» И все это несмотря на запах кофе, уже доносившийся из кухни.
Хотя на примусе воду можно было вскипятить с большей скоростью, но шум при этом будил его мать. С тех пор как исчез отец, ее боли в спине усилились настолько, что она не спала по ночам и засыпала только с зарею. На кухне был еще и бесшумный примус, сломавшийся как-то в годы его детства и с тех пор не использовавшийся. Нужно было поменять на нем горелку, но на это никогда не находилось достаточно денег. Если у него когда-нибудь будут деньги, он купит не только новую горелку к старому примусу, но бесшумный примус, совершенно новый — с ног до головы, от ножек и до венчика, который вспыхнет прекрасным голубым пламенем, жарким и беззвучным. Этим утром он поневоле зажег шумный примус, чтобы нагреть на нем утюг, ведь ночью он не успел отгладить рубашку, и мать его действительно проснулась от звука накачивания. Однако на этот раз она пробудилась в хорошем настроении, без болей, и сказала:
— Знаешь что, Срулик, я сейчас видела чудный сон. Мне снилось, что папа вернулся домой!
Гул примуса, разбудивший мать и вместе с нею всю ее тоску по отцу, начал колебаться, глохнуть и стих прежде, чем утюг успел нагреться, и только когда исчез огонь, Срулик вспомнил, что он знал, что керосина в резервуаре недостаточно и уже несколько дней назад говорил себе, что настало время купить пару галлонов, только тогда у него не было ни времени, ни денег.
— Не страшно, — пробормотала его мать из угла комнаты, снова соскальзывая в дрему, в которую начала погружаться с угасанием огня. — Ну сходишь разок в семинарию в мятой рубашке. На экзаменах ты получишь «очень хорошо» даже с мятым воротничком. Отстроится-Храм никогда не выходил из дому в глаженой рубашке. Даже самая отглаженная в мире рубашка, над которой я трудилась целый час, вдруг выглядела мятой, когда он ее надевал. Я и правда не знаю, отчего все на нем выглядело мятым: штанины, рукава, воротничок…
Она, конечно, была права: он получил «очень хорошо» на выпускных экзаменах, несмотря на мятый воротничок, и она тоже стала поправляться и окрепла настолько, что была в силах снова переносить еженедельную пытку визитами в дом матери. Оставалась лишь одна неделя — последняя неделя учебного рабства, отделявшая его от великого путешествия в Ур Халдейский, когда во дворе семинарии появилась Роза. Со своего места у окна, выходящего во двор, он увидел их соседку Розу, бледную, напуганную, торопливо входящую в ворота, и сердце в его груди тут же наполнилось ощущением того, что дома случилось что-то ужасное с мамой, хотя это появление в воротах вовсе не обязательно было истолковывать таким образом. Ведь время от времени Розу вызывали помогать здешней поварихе, а если на сей раз, напуганная и задыхающаяся, она явилась не по своим делам, а по чьему-то поручению, то скорее можно было предположить, что она пришла вызвать Гавриэля Луриа, в доме которого работала дважды в неделю, будучи к тому же сестрою сеньора Моиза, оруженосца его отца — Иегуды Проспер-бека. Войдя в ворота, она на миг остановилась в растерянности, и Срулик почувствовал, что ему следует поспешить ей навстречу, но в этот миг она обратилась с вопросом к этому набитому дураку — преподавателю географии доктору Цви Садэ, который вышел во двор при трости, при портфеле и при всем своем чванстве. Она в испуге посторонилась и с почтительным трепетом ждала слова из его уст: эта бедолага питала почтение ко всем умевшим читать и писать, а уж тем более к такому господину, как доктор Цви Садэ — к учителю, и не просто учителю, а учителю учителей. Срулик, прекрасно знакомый с обоими и знавший, что столько природного ума и здравого смысла, сколько было в кончике ее мизинца, не нашлось бы во всей крупной голове доктора, не говоря уже о прочих человеческих качествах, при виде ее совершенного самоуничижения исполнился не только злости на этого дипломированного дурака, но и ощущения полной и окончательной беспомощности.
Читать дальше
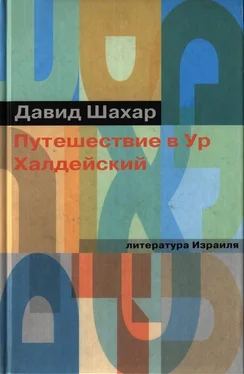
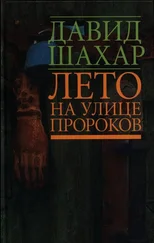
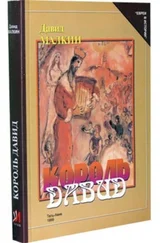



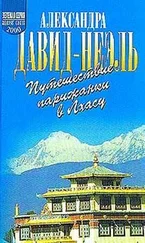
![Тал Бен-Шахар - Управление без власти и контроля [litres]](/books/412485/tal-ben-thumb.webp)



