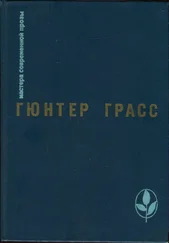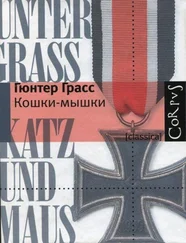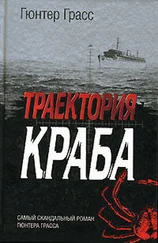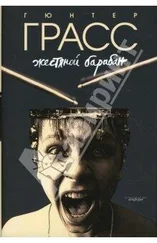После этого я снова стал деловит и конкретен, заговорил о ста двадцати тысячах кубометров бетона на выравнивание и пятнадцати тысячах кубометров гранита. Надворный советник Тиме, на сторону которого тем временем перекинулся архитектор этой расчлененной строительной массы профессор Шмиц, держался гордо и сказал, что памятник «достоин погибших». Затем он поздравил Шмица, а тот, со своей стороны, поблагодарил Тиме за раздобытые деньги и оказанное доверие.
Я спросил обоих, так ли уж они уверены в гранитной надписи «С нами Бог» как раз на середине верхнего цоколя. Оба поглядели на меня, сперва вопросительно, затем качая головой, после чего двинулись к окаменелому колоссу, придавившему бывшую свалку мусора. Вот этих-то обывателей и надо бы высечь из гранита и водрузить среди тех мускулистых атлетов, которые плечом к плечу там, высоко наверху, собственно, и олицетворяют собой памятник, подумалось мне.
На следующий день должно было состояться торжественное открытие. Ожидалось прибытие не только Вильгельма, но и короля Саксонии, хотя как раз именно тогда Саксония-то против Пруссии… Ясное октябрьское небо сулило кайзерскую погоду. Один из моих полировщиков, явный социалист, сплюнул:
— Да, в этом мы, немцы, сильны! В сооружении памятников! Во что бы это ни обошлось!
Наконец, после того, как хоть и многократно, но без результата двое коллег из нашего института прилагали всяческие усилия, мне удалось в середине шестидесятых годов вырвать у обоих старцев согласие на встречу. Возможно, мне, как молодой женщине, больше повезло и вдобавок я, как швейцарка, была освящена статусом нейтральности. Мои призывы хоть и излагали нашу исследовательскую тему весьма конкретно, были, надо полагать, услышаны, как бывает услышан нежный, чтобы не сказать робкий стук в дверь; словом, через несколько дней и почти одновременно я получила оба письменных согласия.
О занятной, «малость ископаемой» паре я поведала своим коллегам. Спокойные номера для гостей я резервировала в отеле «У аиста». Там мы и сидели, преимущественно в галерее Rоtisserie [14]с видом на Лиммат, на расположенную как раз напротив Ратушу и на Дом гильдий [15]Zum Rueden. Господин Ремарк — ему шел тогда шестьдесят седьмой год — прибыл на это свидание из Локарно. Он, судя по всем приметам, бонвиван, показался мне более хрупким, нежели бойкий господин Юнгер, который совсем недавно отпраздновал свое семидесятилетие и держался подчеркнуто спортивно. Постоянно проживая под Вюртембергом, он приехал через Базель, уже после того, как пеший переход через Вогезы вывел его к Хартмансвейлеру, за который велись некогда столь кровопролитные бои. Наша первая беседа шла поначалу через пень-колоду. Мои собеседники, «живые свидетели», со знанием дела толковали про швейцарские вина, Ремарк хвалил тессинские сорта, Юнгер же отдавал предпочтение французскому доле. Оба явно старались импонировать мне своим хорошо сохранившимся шармом. Забавное, хотя и несколько надоедливое, впечатление производили, однако, их попытки говорить со мной на швейцарском диалекте. Лишь когда я процитировала первые строки весьма популярной во время Первой мировой войны песни «Фландрская пляска мертвых»: «Скачет смерть на коне вороном, черная маска перед лицом», песни, автор которой остался неизвестен, сначала Ремарк, а потом и Юнгер подхватили пугающе мрачную мелодию, причем оба помнили и последние, завершающие строчки: «Фландрия в беде, Фландрия в огне, смерть скачет по ней на черном коне». Потом оба устремили взоры на Кафедральный собор, башни которого превосходили высотой дома на Шифсленде.
Вслед за этой, прерываемой лишь легким прокашливанием минутой задумчивости, Ремарк сообщил, что осенью 1914 — он еще сидел за партой, когда добровольческие полки уже истекали кровью под Биксшорте и на подступах к Ипру — на него тоже произвела неизгладимое впечатление легенда о Лангемарке, согласно которой пулеметный огонь англичан люди встречали пением немецкого гимна. Вероятно, поэтому — и не без поощрения со стороны учителей — не один гимназический класс вызвался в полном составе добровольно идти на войну. А вернулось с войны не более половины ушедших. Те же, кто выжил, как например он, который, кстати, и не имел возможности учиться в гимназии, и по сей день не пришли в себя. Он, во всяком случае, считает себя «живым покойником».
Господин Юнгер, который удостоил школьные впечатления своего литературного коллеги — а было это явно всего лишь реальное училище — лишь тонкой усмешкой, хоть и назвал культ Лангемарка «квазипатриотическим жупелом», не мог однако не признать, что им еще до начала войны овладела жажда опасности, тяга к необычному, «пусть даже и в рядах французского Иностранного легиона».
Читать дальше