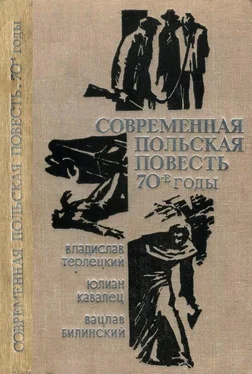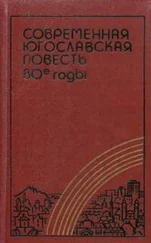Мать говорит — Ф. Д. тоже получил письмо с угрозами, он пришел с письмом к твоему отцу и сказал, что должен уехать, ведь у него жена и дети, так было и с К. Т., и с Л. Б., и с Я. М., и с другими; все они подались в большие города; у него тоже были жена и ребенок и старики родители, а он остался, один против всей деревни.
Из того, что говорит мать, явствует, что отцу предстояло нелегкое дело, но было нечто, чем он мог раздразнить деревню, нечто чрезвычайно важное для того времени, что привело к тому, что никто из нашей деревни не поднял на него руку; это был тот подарок, который долго не принимали, который обходили стороной и к которому по-звериному принюхивались издалека, это были те пятьсот гектаров, их можно было взять, ими можно было насытиться; они превосходно понимали, что земля может быть их, стоит лишь потянуться к ней.
Ты остался, отец, остался один против всей деревни; ты был стоек, ты знал людей, знал, что они поддадутся, не выдержат и возьмут поле, ибо как устоять перед таким соблазном — ровным как стол и огромным полем, перед таким огромным столом поля.
Я знаю, что говорю сейчас устаревшим языком, языком старомодным, что употребляю слова, которые ни в коей мере не современны, но я знаю также, как обстояло дело с землей, ибо постоянно изучаю душу стариков, и она поражает меня.
В конце концов, отец, тебе удалось привести людей на эти нивы; какими же шуточками перебрасывались вы; как надрывался ты, пытаясь шутить; что это были за шутки, сумел понять один из свидетелей и дал свои показания на суде.
— Эй, сосед, ноги подкосило у тебя, что ли, будто ты вошел в королевские покои… — так говорил ты одному из тех, кто ступил на ниву, и ты хохотал, хохотал как безумный, хватался за живот и весь сотрясался от смеха.
— Эй, сосед, что тебя скрючило, будто живот схватило…
— А ты, ты что шатаешься, будто с перепою или всю ночь напролет с бабой возился.
Ты говорил, чтобы хоть что-нибудь говорить, ты на ходу сыпал шутками, чтобы развеселить их, и хохотал как безумный.
Плакал ли ты, отец, или не плакал, когда они тащили тебя на веревке сперва через наше поле, а потом через чужие поля? В книге актов и показаний обвиняемых и свидетелей этот факт с точностью не установлен.
Обвиняемый, тащивший тебя на веревке, на вопрос суда, как держался А. В. на том пути к смерти, отвечает — я слышал звуки, похожие на плач, но точно не могу сказать, плакал ли А. В. или нет, потому что было темно и он шел у меня за спиной; а Б. М. — до меня доносилось что-то, что могло быть плачем, но точно не знаю, потому что я шел за ним; а третий обвиняемый — я шел рядом с Б. М., сзади А. В., было темно, и я не знаю, плакал ли он на поле, если и плакал, то тихо, очень тихо.
И я понимаю, что, кто бы что ни говорил и сколько бы я ни перелистывал этот огромный том судебных актов, относящихся к процессу, я никогда не узнаю, были ли слезы у него на глазах или не было, когда он шел на смерть.
Если исходить из того, что я до сих пор знаю, что вычитал в книге и что услышал от матери, бабушки и соседей, то можно сказать, что глаза отца были сухими, что слез не было; но поручиться в этом не могу, поскольку никто не заглядывал ему в глаза и не освещал их фонариком, чтобы убедиться, плачет ли он.
Как же не плакать, когда тебя тащат на веревке, словно скотину, и когда знаешь, зачем тащат; и когда тебя уже притащили на середину поля, то заплакать можно; не только заплакать, но и рыдать, причитать, вопить, можно корчиться, биться головой о землю, но это не всегда так бывает; так это было или не так, никто, кроме обвиняемых, этого не знает; они же ничего не сказали, это еще больше отяготило бы их вину, свидетельствовало бы о том, что они были жестоки и что их не смягчило отчаяние А. В.
Если бы Б. М. захотел, возможно, он и рассказал бы мне об этом, возможно, он знает, потому что, как следует из показаний, электрический фонарик у него был, и он мог им время от времени освещать лицо отца; Б. М. жив, смертный приговор ему заменили пожизненным заключением, пожизненное заключение двадцатью годами, а двадцать лет за примерное поведение пятью годами, а дальше амнистия помогла, и он вышел на свободу, наверняка с расшатанным здоровьем, но вышел; я не видел его, не знаю, где он живет, не знаю, должен ли я его разыскать или нет; не знаю, как следовало бы вести себя, вдруг оказавшись лицом к лицу с ним; во всяком случае, он смог бы рассказать мне куда больше, чем судебная книга.
Били тебя, отец, били; есть упоминание об этом в книге протоколов, но сперва там речь идет не о настоящих побоях, а, скорее, о подхлестывании плеткой; карательная группа хотела выполнить свое задание как можно скорее и подгоняла отца; подгоняла, дергая за веревку, подсекая ноги плеткой.
Читать дальше