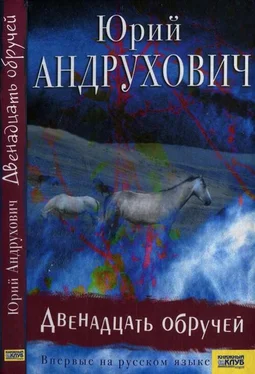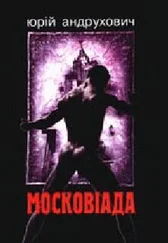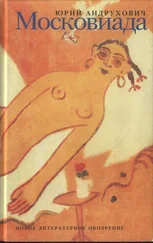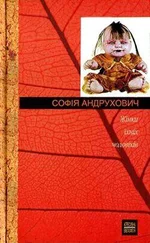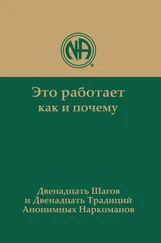Бесспорно, он преувеличивал общественное внимание к своей персоне, да и просто интерес к ней. На самом деле мало кого волновало, что там себе пописывает этот сукин сын, поэтому весь болезненно нацеленный на себя извне энергетический пресс Артур Пепа скорее воображал, чем чувствовал. Да какая там, к черту, литература с ее раздутой цеховой мелочностью! Какое там, в пизду, служенье слову! Речь шла о куда более реальный и существенных вещах.
На тридцать седьмом году жизни Артур Пепа вдруг заметил, как вокруг него начинает кружить, вальсируя, смерть. Это проявилось в ближнем, доступном прикосновению протянутой рукой, кругу: умирали и гибли какие-то родственники, знакомые, знакомые знакомых, поэтому необходимость посещать похороны, выносить гроб, класть венки, креститься на поминках чуть ли не дважды в месяц не могла не парализовать каких-то определяющих центров его — ну простим же ему! — капризно-болезненного «я». С ее, смерти, стороны это было тем более мерзостно, что напоминало элементарную расправу за допущенное Артуром Пепой в ранней молодости вольнодумство. Когда-то, во дни какой-то там ошеломительной весны, когда она еще не смела портить женской кожи, у Артура почти бессознательно написалось безответственное и патетическое «Ни слова про смерть. Это всего лишь форма // с вечным смыслом: жизнь и шмели и роса». И смерть ему этого не забыла, отметив для себя, словно зарубкой на дереве: за базар ответишь.
Таким образом, она подсунула ему личный тридцать седьмой год, увенчанный убийством близкого товарища, открытого любым смертельно опасным (буквально) авантюрам газетчика-пролазы, выброшенного на полной скорости из пассажирского поезда где-то между Здолбуновым и Киевом (пьянка в купе, курение в тамбуре, случайные попутчики-сообщники, полет меж искрами, смертельная опасность). Артур Пепа почти ничего не знал о проводившихся погибшим многообразных репортерских расследованиях , но время от времени мог догадываться об их рискованной напряженности. Поэтому, когда через пару месяцев после того, что случилось, представитель органов правопорядка успокоил присутствующую на пресс-конференции общественность по поводу того, что данное убийство не имеет ничего общего с профессиональной деятельностью потерпевшего, извините, убитого, Артур Пепа тоже подписался под каким-то крикливым письмом протеста, две трети слов из которого гневно пучились заглавными буквами. Впрочем, что там все эти письма да подписанные спьяну конвенции — больше весила переполненность его внутренней чаши. С того момента, как его рисковый приятель полетел навсегда в свою завагонную, размазанную рельсами и столбами ночь, Артур Пепа понял: что-то ушло бесповоротно, золотых времен больше не будет, впереди сгущение тьмы и холода.
Но даже эти обстоятельства никоим образом нельзя считать определяющими в его кризисе. То были скорее следствия: вялость письма чаще всего говорит о чувственном опустошении, а смерть обязательно вламывается туда, где не хватает любви. Поэтому никто, кроме самого Артура Пепы, не мог знать, что все, что с ним происходит, происходит как раз от утраты любви. Или — если последнее словосочетание кажется слишком громким — от все яснее ощутимого равнодушия к когда-то любимой женщине. Или — и этого Пепа боялся больше всего — от утраты способности к любви вообще. Да, поначалу это было постепенное угасание его сексуальности, хотя иногда невзначай замеченное мельканье всяческих уличных бедер и ягодиц еще могло расшевелить в нем прежнего сперматозавра. Того самого, который совсем еще недавно, во времена куда лучшие, в свободном плаванье за день-деньской набравшись вволю электризующих взглядов, взмахов, ожогов, надышавшись весной, вином, духами и секретами секреций, мог в ту же ночь так щедро все это отдать, что Рома Вороныч, его жена и лучшая из любовниц, почти теряла сознание.
Она была старше на неполных пять лет, но это не могло иметь никакого значения тогда, в миг их первого сближения.
Все началось с выставки литографии в историческом музее. Они наслаждались привилегией жить в городе, где подобные акции просто необходимы, чтобы время от времени несколько порастрясти гнетущее окружающее оцепенение. Артур Пепа не очень-то разбирался в особенностях литографии, в частности цветной (а была выставка именно цветных литографий), но и не прийти он не мог — хотя бы просто памятуя о неизбежной при таких оказиях последующей пьянке с участием целой армии странствующих комедиантов . («Знаешь, во мне все замирает, стоит лишь подумать, что в тот вечер я мог не дойти», — скажет он ей уже через несколько лет, в постели, счастливый от изнеможения, положив едва успокоенную ладонь на ее скользкий от любовных ласк живот. Она поймет, что он о той выставке, поскольку ответит: «А я собиралась заглянуть только на пять минут, там были несколько моих знакомых».)
Читать дальше