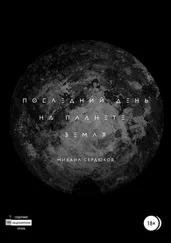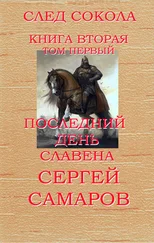– Ты еще, Егоровна, в колхозе числишься? – спрашивает отец, проводя рукой по лезвию косы, пробуя жало.
– Хто ж меня пустит с колхозу, – отвечает Птушенька, и мне представляется, что она тихонько посмеивается, произнося это. – Вот помру, тогда в отпускную…
Птушенька не жалуется, в ней много живого участия к жизни, приятия ее такой, как она есть. Ей нравится жить, несмотря ни на что, с годами в ней вызрела эта легкая усмешка как защита от всего, что могло накопиться под сердцем и убить его.
Она безыскусственна и проста в понимании окружающего, но путь к этой простоте и радости повседневного был такой страшный.
Вот рассказывает она, как ее сыновья воевали в войну. Одному из них было восемнадцать лет, другому – двадцать. Ушли партизанить «вон в те леса». Птушенька укажет в окошко «вон в те…» и ровно будет продолжать, как пришли к ней немецкие солдаты и стали спрашивать про детей.
– Где ваши дети? – спрашивали они. – Во зинд ире киндер?
Русские полицаи переводили ей.
– Да на фронте, где ж они могут быть, – отвечала она спокойно, сложив руки под передник и глядя снизу на солдат.
– Отвечайте, где ваши дети? – кричали солдаты.
– Я ж говорю, воюют, так же как и вы, в шинелях… Вот только покультурнее, наверно, они на свою мать не кричали никогда.
Она понимала всю бессмысленность таких вопросов, им нечего было с нее взять; она прежде сделала свое: родила и взрастила детей, которые теперь били этих чужеземцев. «Ах ты французу!» Та к она сказала тогда, выругавшись на немца. Тот не понял, сказал:
– Нейн! Их бин дойтше солдат!
Она тогда чуть не засмеялась врагу в лицо. «Ах ты французу!» Говорят, это ругательство пришло от давних наполеоновских времен, но ведь Смоленщина есть, а от французских захватчиков только одно ругательство осталось. А двое ее сыновей бой в лесу ведут. Пусть их попробуют словить – так она думала.
Но она ошибалась.
Нашлись люди, которые точно указали, где находятся ее сыны.
Немцы подослали к ним из деревни человека, который якобы от матери сообщил, чтобы они не скрывались, а шли домой: прибыли бойцы Советской армии и хотят помочь им перебраться через фронт к своим.
Ребята поверили человеку. Они пришли домой на рассвете, постучались:
– Мама, ты нас звала?
Тут их и схватили, она и понять ничего не успела. Только: «Мама, ты нас звала?»
Связали. Повели на Ельню. Специально по деревням, чтобы везде видели, что будет с каждым пойманным партизаном.
В каждой деревне их избивали, а она пошла вслед и все видела. По тем же дорогам, босая, точно раненая птица, она прошла до самой Ельни. Видела кровь, что оставалась за ними на песке, подбирала клочки одежды в местах, где их избивали. Ее видели солдаты, однажды погрозили винтовкой, но не тронули. Она шла тихая, будто бы спокойная даже, никому она не мешала. Брела на отдалении, только белый платочек мелькал. След в след, с сухими глубокими глазами, устремленными на детей.
«Мама, ты нас звала?»
Так она пришла в Ельню, пережив каждый шажок детей своих. На краю Ельни двух ее сыновей расстреляли. На том месте сейчас их могила.
– За двух ребят получаю я пятнадцать рублей пенсии, – объясняет просто Птушенька. – А ребята какие были, Петрович!
Третий ее сын умер недавно от старых ран.
– Александра Егоровна, – говорит отец, не вмешиваясь в ее негромкую, очень ровно рассказанную историю, только повторяя в паузах:
– Александра Егоровна…
Он и сам не знал, наверное, что он может сказать. Так просто повторял, чтобы слышала Птушенька свое имя, произнесенное с достойным уважением.
– Александра Егоровна!
– Растет другая внучка, – говорит Птушенька, и подбородок ее вздрагивает от тихого смеха. От светлого чувства к этой внучке. – Слава богу, может, будет все хорошо. Как ты смотришь, Петрович?
Отец сказал: «Гулять мы ходили за приставкинский колодец».
Колодец этот стоит сейчас вроде бы в центре деревни, но близ него домов никаких нет.
Была тут изба деда нашего (до переселения в Радино), прадеда Василия и прапрадеда Ивана, теперь же ровное зеленое поле, хоть стадион устраивай. Один приставкинский колодец торчит. Вырыли его давно, при предке Иване, лет сто назад. Тогда наш род жил одной семьей.
Сруб клали не из осины, от которой вода поначалу горчит, а из березы. Она в воде не гниет, от нее и вода слаще.
Пользовались колодцем девяносто изб, и вода в нем была на редкость удачна. Сейчас колодец обвалился, вода в нем загнила, и вся деревня ходит за водой на речку, на криницу. После завтрака отец пришел к колодцу, осмотрел, спугнув в лопухах курицу, потрогал деревянный сруб, сказал «мда».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Анатолий Приставкин Первый день – последний день творенья [сборник] обложка книги](/books/34293/anatolij-pristavkin-pervyj-den-poslednij-den-t-cover.webp)

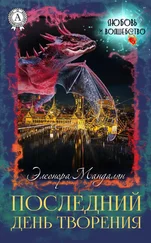
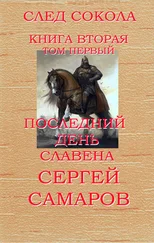
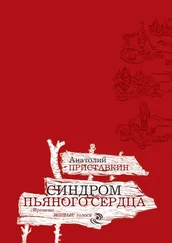
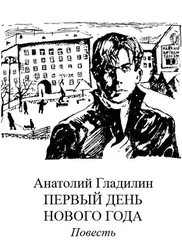
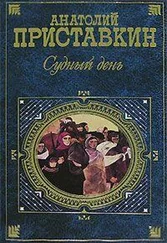
![Никита Поляков - Последний день зимы (сборник стихов) [СИ]](/books/416007/nikita-polyakov-poslednij-den-zimy-sbornik-stihov-thumb.webp)