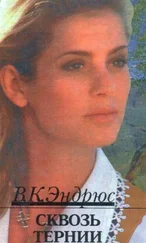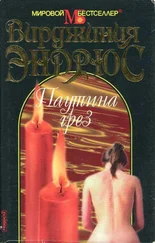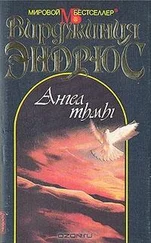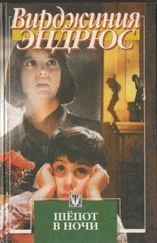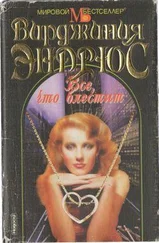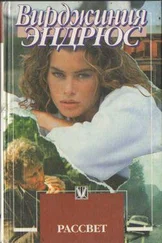Может быть, нужно было отдать Джори мадам и тем избавить его от скандала, унижений? Может быть, во мне говорит эгоизм? А Барт? Что будет с Бартом? А что случится с Синди, если наш секрет будет раскрыт?
Мне показалось, что мы в Шарлотсвилле, живем там с Крисом и Кэрри, или что мы на пути в Сарасоту. Моя память – как кинолента, и вот в моей памяти та толстая черная женщина, которая старается забраться в автобус с огромным количеством тюков и сумок. Генриетта Бич. Дорогая, милая Хенни. Я так давно не вспоминала ее. Помню ее широкую ослепительную улыбку, ее добрые глаза, мягкие руки… и радость и покой охватывают меня, будто вот сейчас она вновь отведет нас всех к Полу, который спасет нас…
Но кто спасет нас сейчас?»
В моих глазах стояли слезы. Я отложил дневник. Я прокрался в комнату Барта и увидел, что он сидит на полу, скрючившись, как старичок, и в полнейшей темноте.
– Барт, ложись лучше в постель, – сказал я.
Но Барт будто и не слышал меня.
Я знал, я точно знал, что Джори будет подглядывать за мной, чтобы узнать, что там еще я выдумал. Притворился, будто я не замечаю его. Как только в его комнате погас свет, я выкрал последние страницы маминой рукописи. Я знал, что это конец, потому что внизу она написала свои инициалы и адрес.
Даже не знаю, почему я заплакал. Малькольм не стал бы жалеть их с братом. Мне надо стать жестоким, непреклонным, чтобы ничто не трогало меня до слез.
Наступило утро, и я пошел на кухню. Там мама с Эммой готовили тесто, болтали о пирогах, обсуждали хозяйственные проблемы. Женщина думает, что ее козни могут пройти незамеченными. Что ей все сойдет с рук. Как бы не так.
Я сидел на полу, согнувшись так, что колени доставали до подбородка. Руками я обхватил себя. Какие костлявые у меня руки. День ото дня костлявее. Я поочередно глядел то на маму, то на папу, думая о том, что у них в мыслях и думают ли они когда-нибудь обо мне. А также о том, что они совершают.
Я закрыл глаза. И представил себе маму, такую, какой она была до того, как сломала колено. Прошлым летом, когда я вышел из больницы и у меня была бессонница, я однажды забрался ночью в кухню, чтобы пошарить в холодильнике, пока никто не видит. Мне тогда хотелось, чтобы все обеспокоились, отчего это я не ем днем. Я уже стащил было холодные куриные окорочка, как вдруг услышал шорох, и мама, танцуя, вплыла в гостиную, а вслед за нею вошел папа. На маме была короткая белая туника. Они не заметили меня: мама напевала, а папа обычно никого, кроме нее, не видел.
Она выглядела в своей тунике очень привлекательно. Она танцевала и флиртовала с Крисом, который тихо стоял в тени и наблюдал. Она то тянула его за галстук, то вытаскивала на середину комнаты, поворачивая направо-налево; она старалась заставить его танцевать. Но вместо этого он схватил ее в охапку и поцеловал. Я услышал звук поцелуя! Ее руки обхватили его шею. Я замер и глядел, как он расстегивает все эти маленькие крючочки, на которых держалась туника. Она соскользнула и упала к ее ногам, и на маме больше ничего из одежды не осталось, кроме белых балетных тапочек, которые он тоже стянул с нее. Голая. Он раздел ее. Потом он поднял ее на руки и, не отрывая своих губ от ее, понес ее в спальню – и при всем этом он был ее братом.
Ничего удивительного в том, что Джон Эймос пророчил им наказание. Они заслужили. Блудница! Сука! Греховодники, в которых течет моя кровь. Они не спасутся. Они будут гореть в огне, гореть, гореть, как мой родной отец Бартоломью Уинслоу.
Я прочел ее историю, ее повесть. Я узнал, какие плохие бывают матери. Прятать своих детей, заставляя их играть на чердаке в пыли, в жаре и духоте летом, в пронизывающем холоде зимой! И все эти годы быть запертыми, избиваемыми, голодными. А эти прекрасные золотые мамины волосы, испачканные грязью и пылью чердака, вымазанные в смоле…
Я ненавидел Малькольма, который так подло относился к своим собственным внукам. Я ненавидел эту старую даму по соседству, которая отравляла мышьяком сладости для детей. Что за сумасшедшая? Может быть, и моя бабушка кладет мышьяк в мои печенья, мороженое, пироги? Я содрогнулся и почувствовал тошноту. Отчего ее не забрали полицейские и не посадили на электрический стул, где она сгорела бы, сгорела, сгорела?
Нет, шептал мне внутренний голос, красивых женщин не сжигают на электрическом стуле, умные юристы объявляют их сумасшедшими и запирают от мира в прекрасных дворцах далеко в зеленых горах. Эта самая женщина, которую каждое лето навещал в сумасшедшем доме мой папа, значит, она и есть мать мамы. Да, грехи папы и мамы видны небу! Бог должен покарать их, а если он этого не сделает, то Малькольм убедится, что это сделаю я.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу