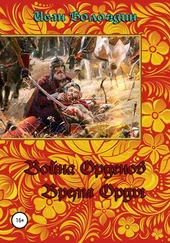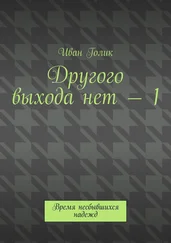Сидя на диване как истый историк, я блуждал глазами по комнате, в которой, как правило, присутствовала бабушка Джулии, и был доволен, рассчитывая на расположение старушки в дальнейшем.
Бабушка и впрямь была ко мне тепла. Корила Джулию, если видела меня расстроенным. А когда мы с Джулией уходили в школу, неизменно напоминала:
— Надеюсь на тебя!.. После уроков не задерживайтесь!
Джулия, слыша эти слова бабушки, морщила нос, нисколько не признавая возложенную на меня старшими опеку, но не перечила ей.
А я, пользуясь официальным разрешением опекать Джулию, по пятам следовал за нею и не давал никакого послабления, за что она презрительно фыркала на меня на глазах у всей школы. Однако это нисколько не мешало ей поздними вечерами по пути к дому притискиваться знобящим телом к моему и с придыханием ухмыляться то ли игре, то ли моей слабости.
Нацеловавшись с ней до одури субботними вечерами, я плелся весь обратный путь за семь километров, чтобы как-нибудь дожить до понедельника, заранее зная, что в воскресенье дома не усидеть…
Звериная тоска по Джулии иногда воскресными вечерами водила меня в поселок, чтобы подглядеть из-за укрытия тень ее существа в свете керосиновой лампы. С клокочущим в горле сердцем я простаивал часами подле заветного особнячка и питал себя надеждой, что за все муки сердечные буду вознагражден ответной любовью Джулии.
Джулия с матерью работали в городе. И никто не мог похвастать знанием сферы их работы. Только можно было видеть, как изо дня в день ранними утрами уезжали они на кабриолете Союзтранса, а ко второй половине дня возвращались на «Победе» в сопровождении двух элегантных мужчин в галстуках.
Горбоносый водитель, высунувшись из кабины, въезжал в поселок, напоминая собой громадного попугая. Подкатив к особнячку, он первым вылетал из машины и настежь распахивал дверцы, сперва Джулии, кокетливо улыбавшейся на переднем сиденье, а затем и ее матери с противоположной стороны салона.
Вышедшие из машины женщины, отступив чуть в сторону, кивком прощались с двумя элегантными мужчинами, остававшимися в машине, и торопливо исчезали за воротами.
Порою в праздничные вечера, свободные от школьных занятий, мне удавалось подсмотреть, как в сопровождении знакомых мне мужчин вкатывалась в поселок Джулия вместе с матерью.
Несмотря на позднее время, я отчетливо узнавал каждого из них. Прощание в такие поздние часы длилось дольше обычного.
Не спеша выйти из машины, женщины о чем-то весело переговаривались с мужчинами, приглушенно похохатывая над чем-то.
Эти мучительные сценки, подсмотренные из-за укрытия, обрывали во мне всякую жизнь и заставляли бежать опрометью назад.
Под ногами через поле убегала узкая тропа, как затерявшаяся в мироздании надежда. Опоясав ночное небо, пылал Млечный Путь, как мое удаляющееся счастье. Тихий лунный свет серебрил купы далеких кипарисов над кладбищем и уходил за горизонт мерцающим маревом, усугубляя чувство одиночества и надломленной любви. Где-то спрятавшись в листве, надрывался соловей, изводя в плаче грудных младенцев.
Не в силах вынести пронзительного одиночества в ночи, я падал под деревом и беззвучно плакал, мечтая о смерти…
Ничто на свете не могло меня утешить! Никто не мог отвести от меня смерти! Но Джулии не нужна была ни моя жизнь, ни смерть моя!
Просыпаясь на заре от щекочущих лучей солнца с непросохшими ночными слезами на щеках, я вставал и нехотя шел на работу к своему единственному читателю, чтобы подобрать ему очередной роман, снабдив его изустной аннотацией.
Наши с председателем вкусы во многом сходились, поскольку мы оба страдали одной болезнью — безответной любовью.
Он, в отличие от меня будучи человеком, обремененным семьей — женой и тремя дочерьми, — так же как и я, был романтически влюблен.
Особа, которая так занимала его сердце, сидела через комнату в бухгалтерии и неистово щелкала костяшками счетов, костяшками легкими и пустыми изнутри, как и трудодни, которыми нас обкладывали в те послевоенные годы.
Страдая тайно и явно, — тайно потому, что об этом не догадывался муж этой особы, а явно потому, что об этом знали все конторские работники, — председатель прибегал, как и я, к одному средству — к чтению, понимая, что оно способно заглушить ту боль, которая в нас так свербела. Но боль, как и всякое другое явление, требующее выхода, находила такой путь и в нас посредством стихов, с помощью которых мы занимались самоврачеванием.
Читать дальше
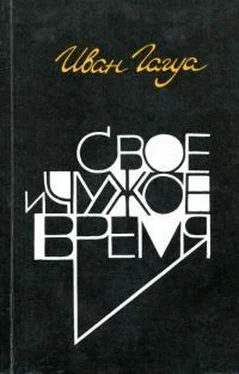





![Александр Долинин - Чужое время [СИ litres]](/books/404318/aleksandr-dolinin-chuzhoe-vremya-si-litres-thumb.webp)