— Нет.
Она вдруг громко, с наслаждением зевнула.
— А скажи-ка, ты когда-нибудь ходил по-большому в самолете.
— Нет.
— До земли тысяч двадцать футов, скорость немереная, и думаешь, вау, там, где оно в конце концов шмякнет, не хотелось бы сидеть, слушая тихую музыку. Совсем спятила. Господи, Боже. Как там укус. Кровь прямо через простыню. Кошмар. Никогда не думала, что так сильно кусаюсь. Давай хоть перевяжу. И зубы со вчерашнего дня не чистила. Плохо, наверно.
Абигейль медленно выкарабкивается из-под одеяла. Неуверенной ногой касается пола. Делает шаг к Сэмюэлю С, замотанному в кровавую простыню; тонкая ткань стоически прижата к бедру. Абигейль осторожно отлепляет простыню от белесой веснушчатой ноги.
— Можно я гляну. Ой, неужели это я зубами.
— Это вы. Вы зубами.
— Бог ты мой, извините. Можно хоть рану обработаю.
Абигейль не сводит глаз с места укуса. Вскидывает ладони к лицу. Узкая спина изгибается, посередине проступает цепочка белых бугорков. Длинный стон, на лице болезненная гримаска. Сэмюэль С вздрагивает. Абигейль опускается на колени и замирает. Маленький человечек, крошечный комок.
— Помоги мне, Сэмми. Мне нужна помощь. А самый первый раз у меня это случилось с нашим псом. И он меня укусил. Ты, может, знаешь, очень со мной фигово или как.
Ледяные пальцы тянутся к Сэмюэлю С, призрачные навязчивые волоконца, медуза-великанша на волне страха, которую внешний мир обрушивает всякий раз, когда падаешь вниз, вниз вертикально. Встать и бежать. Прочь по-быстрому. На площадку, вниз по лестнице и по штрассе как можно дальше. Литр кислого молока — от летаргии желудка — и прощайте. Прощайте, хозяйкины улитки, прощай, графиня, прощай, прощай, этот дикий, идиотский дурдом. Кто тут врач, кто пациент. Где мурашки. Ага, вот. Мурашки везде.
— Сэмми, так и будешь молчать. Стесняешься, что ли. Прости, что я смеюсь, но ты не первый, кого я кусала. Меня это беспокоит, но иногда бывает смешно до колик, буквально. У тебя такой вид, будто тебя тоже что-то беспокоит.
— Беспокоит.
— А мне-то — беспокоиться или как.
— Не знаю.
— Я не чувствую себя больной, но, видимо, больна.
На площадке шаги. Шлеп-шлеп за дверью. Герр профессор с верхнего этажа. На выход за утренней порцией льда. Сказал как-то раз, когда они столкнулись внизу, что он экспериментирует. Со льдом, который не будет таять. Вроде вечной спички, которая всегда будет зажигаться. Разбирается ли герр С в науке, герр профессор слышал от хаусфрау, что он учился в Гарварде. А обычный лед, сказал герр профессор, нужен как контрольный образец. Понятно ли герру С. Герру С было понятно. И профессор, шаркая, удалялся к себе на чердак, где впадал в маразм, но говорил на древнегреческом безупречно. На этом благородном наречии они, было дело, перебросились у двери парой-тройкой бессмыслиц. Отчего хаусфрау, ни в зуб ногой не врубившаяся, зашипела сквозь щель в двери, чтоб не шумели.
— Я папе из колледжа письма писала, сидя нагишом, и так ему и написала, как я их пишу. Нагишом то есть. Не знаю, я до сих пор чувствую себя абсолютно нормальной. А ты. Сэмми.
— Не знаю.
— Почему ты так кутаешься. Боишься, что опять укушу.
— Как-то не тянет снова становиться холодной закуской. Пора подавать горячее. Вот и греюсь.
— В глубине души ты так и остался ребенком, ты в курсе.
— В курсе.
— То есть тебя это устраивает.
— Устраивает.
— А ты, наверное, еще и вуайерист.
— Может быть.
— Инфантильный, да еще и вуайерист, да в твоем возрасте — не слишком удачное сочетание. Не знаю, зачем я трачу время, лекции тебе читаю. Разве что, если у нас так ничего и не выйдет, надо будет хоть другим отсоветовать.
— Сколько яда.
— А ты что думал. Э, секундочку, в каком смысле яда.
— Брызжешь на меня, можно сказать, ядовитой слюной.
— Ой, давай сменим тему. Хотела бы я все-таки знать, какие у тебя взгляды на жизнь.
Сэмюэль С чешет под коленом, смахивает капельку крови. Той же окрашенной костяшкой проводит под носом, отирает каплю застывшего пота. Свинствующий сфинкс, вахлак малахольный с забардаченным чердаком, обызвествленный любезник. Исповедник выживших из ума изобретателей, богатых белокурых аристократок и нагих шлюшонок, ведущих семинары. Исполински раздулся от гордыни, взращенной на печально победивших принципах. И вляпался в августейший, вероломнейший из провалов. Теперь только возглавить парад униженных, перевалить Альпы, двинуться на Мюнхен — нет-нет, Париж минуем, — потом на плот и из Бреста в Нью-Джерси; сойти левее Стейтен-Айленда и заложить дворец дурацких неудач на ближнем болоте, среди гнилья и пиявок. Храм, куда смогут приезжать иногородние приятели, чтобы, сидя у ног, просить прощения за мирские богатства и процветание.
Читать дальше
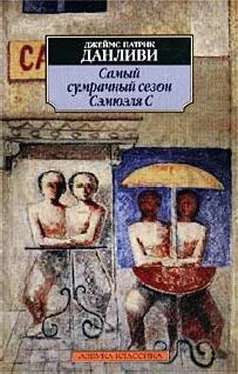

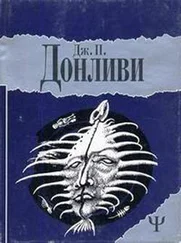
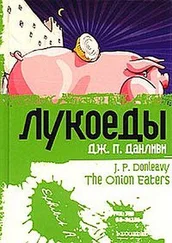


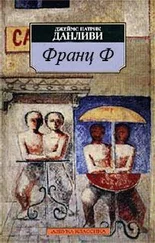
![Джеймс Донливи - Самый сумрачный сезон Сэмюэля С [Компиляция]](/books/424356/dzhejms-donlivi-samyj-sumrachnyj-sezon-semyuelya-s-ko-thumb.webp)