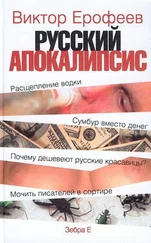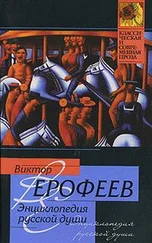Виктор Владимирович Ерофеев
Карманный апокалипсис
Я люблю работать ночами, как Сталин. На последнем издыхании молодости сижу и пишу. Меня мутит. Меня знобит. Завернувшись в плед, нахохлившись, преодолевая головокружение, ворочаю пером.
У моих сверстниц уже обмякают груди.
Под утро я позволяю себе не чистить зубы. В ванной голова кружится особенно нестерпимо. Пестрые полотенца разлетаются во все стороны. Зубная паста вызывает рвотный инстинкт. Но страшнее всего для меня мосты и туннели.
Я боюсь упасть в обморок, потерять сознание, но это только полдела, неловкость перед прохожими. Разгребая этот вздор, я вижу другое: гроб в церкви на Новокузнецкой, в нем непохожий на себя, распухший, словно помещенный за толстое стекло аквариума, знакомый мертвец. Жертва уличной духоты и обоюдопорочных страстей.
Я не готов к такой транспортировке. Это автопсихоаналитическое заключение не приносит мне утешения, но порождает вялую нежность к процессу жизни. Мнительность, шепчу я, не что иное, как патологическая форма бдительности. И снова: ни улыбки, ни облегчения. Слова потеряли свою силу.
Таков род моей жалобы.
На последнем издыхании молодости я сознаю, что Россия находится вовсе не в худшем своем виде и состоянии, лелею мечты, возлагаю надежды на отдаленное будущее, на непочатые силы, на прочее.
Мой Бирюков придерживается того же образа мысли. Однако он был куда более радикален, чем я, до случившихся здесь событий, то есть куда больше Чаадаев, нежели его автор. Меня смущает столь резкая постановка вопроса об империализме. Я боюсь, что даже будучи в польском городе Данциг, в этом продувном коридоре, я бы не сносил за нее головы. Что же говорить обо мне, здешнем? Я думаю о Пушкине и о том, что написал бы он, не будь император у него главным цензором, и прихожу к выводу, что ничего бы хорошего не написал.
За вычетом нескольких стихотворений, весьма подлых по своей сути, он уместился в сосуде, который выдуло для него его время.
Но теперь все другое.
Входят девушки. Они не бритоголовы, но коротко пострижены. Они улыбаются, глядя на мертвого Бирюкова.
Финал: сообщения в газетах о самоубийстве.
Фотография плачущей жены Марты. Назовем ее лучше Кристиной. Плачущая Кристина. Интервью честного журналиста.
Честный журналист говорит, что он не верит в самоубийство, он прозрачно намекает, однако не отрицает подлинности почерка.
Его похитили!
Но кто?
Он предсказал распад.
За это его убили.
Несвежий Иосиф рассказывает, как они сидели на веранде.
Кристина выйдет замуж за честного журналиста.
– Дайте мне осмотреться!
– Можно подумать, что ты там не следил за событиями!
– Честное слово, нет...
Конечно, они не верят. А он не врет. И так будет всегда.
– Как вы себя чувствуете? Простите за некоторое насилие.
У каждого есть своя Москва, Москвы роятся, как весны и звезды, и вдруг он входит в нормальную жизнь, и все прекрасно, и он не находит себе места, потому как уж больно бессмысленно потеряны годы, десятилетия, рухнуло все: ему на голову. Он попадает в свою Москву, и слезы! горючие слезы! – он никогда не думал, что так можно плакать, но, идя по этому городу, разглядывая названия улиц, встречает уехавшего друга, и друг предупреждает его об опасности – и он сам знает, что есть какая-то невидимая грань, и перешагивает ее: если перешагнешь – погиб, – и он перешагивает эту грань и знает, что обречен, и начинается слежка; он вскакивает в такси и видит: слежка, и вдруг возникают морды из прежней жизни, и не понятно, то ли поблекла новая столица, то ли он уже снова в старой:
– Я сначала еду в Петербург.
– То есть назад?
– Скорее в сторону... Далее морем. Так выйдет дешевле. Они тебя убьют.
– Да за что!?
Нет, быть не может, ведь я сам всегда выступал за терпимость. Но все ж таки они все потеряли... Они потеряли-то что? Они приобрели – все!
– Смотри, – сказал Иосиф. – Ты был у истоков. Бирюков только рукой махнул и спросил шофера:
– Неужели было лучше?
– Был бардак, а теперь инфляция, – хмуро сказал шофер.
Тут он вспомнил, что денег-то нет, только старый червонец.
Запад опять просчитался. Нас не накормишь пепси-колой. Мы выше этого. Поскребите русского, и вы увидите татарина. Не поскребли.
– Ваша личная ответственность велика. Вы глумились над Россией. Наши ребята не любят вас. Они готовы прихлопнуть вас, как муху. С трудом сдерживаю их порывы.
Нужно искупление.
Читать дальше