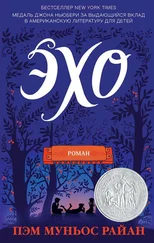Он осторожно закрыл дверь, чтобы не проникал свет из коридора, прислушался к дыханию Нади, спавшей с приоткрытым ртом, снял брюки и лег рядом с ней, прижавшись к ее бедрам и ногам, подтянутым к животу. Когда он наконец устроился и застыл с закрытыми глазами, ему снова показалось, что он вернулся в надежное пристанище и звуки города и утренний свет затихают, будто в середине дня или ленивым неподвижным вечером, – так же как после обеда, когда они ложились в постель и незаметно темнело. Часы их разговоров и ласк были дольше и безмятежней, чем в обычное время: они не стыдились друг друга, и это только усиливало их нежность, безумствовали и смеялись вместе, внезапно умолкали, напряженно глядя друг другу в глаза, с удивлением и страхом, как свидетели происходившего с ними чуда. А потом, утомленные, покрытые потом, обессиленные от любви, они слушали свое дыхание в тишине, и их губы и руки снова возвращались к ласкам, но уже без нетерпения, ноги сплетались под простынями – словно для того, чтобы постоянно чувствовать всегда желанное тело друг друга. Их голоса, погружаясь в воспоминания, становились таинственными, и время растягивалось в них, как замедленное движение реки, выходящей из берегов в илистой дельте. Они лежали, поддаваясь течению медленного потока слов, и постоянно говорили, повторяя слова из пыльной Библии, возможно так же пробуждавшие страсть в ком-то другом более ста лет назад: «На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя, искала его и не нашла его». Повторяли имена и песни, слушали их снова через столько лет, не переставая удивляться, что любили одинаковую музыку в одном возрасте и имели общее прошлое, в котором, еще не зная друг друга, уже были вместе. Они жили вне дня и ночи, календаря и часов, как выжившие после кораблекрушения на необитаемом острове – острове голосов, принадлежавших не только им самим, но и наполнявших их воображение и память. Им снилось, что они продолжают разговаривать и снова смотрят бесконечные фотографии Рамиро Портретиста, а открывая глаза, видели фигуру всадника, скачущего на занимающемся рассвете или в только что наступивших сумерках. Этот одинокий и спокойный путник, настороженный, гордый, почти улыбающийся, оставляющий за своей спиной холм с очертаниями замка, казалось, едет без цели, в какое-то место, не видное на картине, с неведомым названием, и неизвестно ни имя всадника, ни долгота и широта страны, по которой он скачет.
*****
Я вижу, как под ровно-фиолетовым, но еще не ночным небом постепенно загораются огни на смотровых башнях Махины, лампочки на углах последних домов, мерцающие и дрожащие, как пламя газового светильника, и висящие над площадями фонари: их свет колеблется, когда ветер качает натянутые между крышами провода, отчего мечутся в разные стороны тени одиноко бредущих женщин. Они шагают, опустив голову и уткнув подбородок в шерстяной платок, неся оловянный бидон или совок с раскаленными углями, припорошенными золой. На них надеты теплые шерстяные чулки, тапочки из черного сукна, куртки поверх фартуков, застегнутые до самого верха. Склонившись, женщины двигаются вперед против ночи и ветра, добираются домой, но все еще не зажигают свет и, оставив в прихожей совок с углями, идут за жаровней, наполняют ее до половины дровами и потом, набросав туда углей, выносят жаровню на порог, чтобы ночной ветер, легкий, как морской бриз, скорее разжег ее. Эта картина у меня не в памяти, а прямо перед глазами: я вижу, как в холодном полумраке этот огонь разгорается, в то время как тьма завладевает улицей. Я чувствую запах дыма и холода, золотистых и красных углей в голубом полумраке, кипящей смолы и мокрых оливковых дров, запах зимы, ноябрьской или декабрьской ночи, напоминающей своим немного тоскливым спокойствием затишье перемирия: несколько дней назад закончился забой свиней, но еще не начался сбор оливок. Я вспоминаю сумасшедшую женщину в черном платке, с собранными в узел белыми волосами: каждый вечер, когда начинает смеркаться, она крадучись, почти прижавшись к стене, идет по улице Посо, ворует брусчатку с ремонтных работ в Доме с башнями и возвращается, укрывая брусок под платком, как кошку. Она улыбается, стараясь скрыть свою радость, и что-то бормочет, будто разговаривая с этим камнем – то ли кошкой, то ли ребенком, который, как рассказывают, умер, когда она была молодой.
Усталые, истомленные работой мужчины недавно вернулись с поля и, привязав животных к решетке, разгружают и распрягают их. Они зажгли свет в выложенных плиткой прихожих и жарких, пахнущих навозом конюшнях, но в комнатах, где женщины переговариваются вполголоса или молчат, поглощенные шитьем, до сих пор царит полумрак: скудное освещение исходит лишь от лампочек с улицы и последних гаснущих проблесков на небе, окрашенном на западе в красновато-синий цвет. Как только включат электричество, ставни на окне тотчас закроются, но сейчас возле него еще сохраняется остаток непонятно откуда идущего света, ложащегося пятнами на лица, руки, белые полотна в рамах, блеск глаз, рассеянных или пристально глядящих на улицу, где раздаются шаги и удивительно отчетливо слышны обрывки разговоров, на радиоприемник с отмеченной частотой и названиями радиостанций, городов и далеких стран, где находятся некоторые из них. Чья-то рука медленно крутит колесико настройки, стрелка перемещается по самым отдаленным географическим пространствам и наконец останавливается на музыке, сначала перебиваемой пиканьем, иностранной речью, глухим звуком рвущейся бумаги – музыке рекламы, песни или сериала. Как возможно, чтобы внутри такого маленького ящичка находились люди, как они настолько уменьшаются, как проникают туда – может, через щели, как муравьи? Голос диктора звучит торжественно и почти угрожающе:
Читать дальше