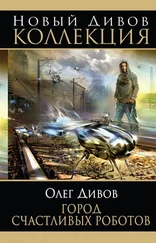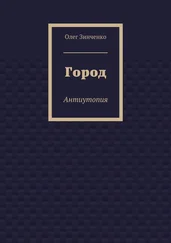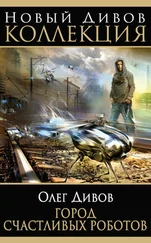— Стоп, — сказал я. — А этого кто заберет?
— Митьку? Надо забрать, — сказал первый. — Митьку надо забрать…
В полчаса растолкали, поставили на ноги Митьку, обрядили в пальто — и ушли, раза три попытавшись напялить на Митьку мою шапку.
Я захлопнул за ними дверь, вернулся и выключил люстру.
V
Всходило солнце.
Осторожное, чистое январское солнце легло на Троицу, на гостиницу, на дальние снежные крыши. Но видно было, что это уже ненадолго и что солнце, поднявшись, исчезнет в морозном дыму.
— Вставайте, девушка. Проспите царствие небесное. Вставайте, вставайте.
Она недовольно, со стоном зашевелилась. Оперлась на локти, подняла заспанное, мятое лицо и, щурясь от света и неудовольствия, от падающих на глаза волос, спросила сонно:
— В чем дело?
— Где вы живете?
— Здесь…
— Об этой лежанке уместнее будет рассказывать в прошедшем времени.
— Вы кто? — спросила она, подумав.
— Но если лежанка вам так полюбилась, возьмите ее с собой.
— А-а… — нехорошо, утомленно засмеялась она, бессильно откидываясь набок, — вы этот самый…
— Да, — сказал я. — Этот самый.
— Закурить у вас есть?
Голос у нее был хорош.
Она вытащила из моей пачки папиросу, и я поднес ей огня. Огонек моей спички празднично задрожал в рубиновом камешке.
— Спасибо…
С трудом устроив подушку повыше, она с облегчением оперлась спиной и мрачными глазами оглядела комнату. Пепел она бессильно стряхивала на пол.
— Чего вы хотите?..
— Сесть.
— Ну, присядьте куда-нибудь… Господи! Не гремите вы так!..
Самым чистым казался мне письменный стол. И шторой я смел весь хлам с него на пол: мужские рубашки, бумаги, аптечные пузырьки, валик для типографской краски, стаканчик с отточенными карандашами и прочее.
— Почему вы на стул не сели?
— Простите?
— Почему вы на стул не сели?..
— Тут кругом ваше белье.
Я сидел на потертом сукне стола, с большим удовольствием разглядывая гравюру, которую успел подхватить. Гравюра изображала деревья и дом. Чтобы зритель долго не мучился, внизу была надпись: «Ленинградский пейзаж». По полю гравюры криво шло дарственное: «Людочке с дружбой, любовью Митя», дата была вчерашней.
— Дайте пива, — сказала она. — Вон, на полке.
— …стакана чистого нет.
— Дайте так. Откройте… Вы будете?
Я отказался.
Она села, свесила вялые ноги. Не глядя вниз, нашла босыми ногами тапочки, и поднялась. Потягиваясь как кошка, спиной, одернув небрежно халатик и закидывая измученно назад спутанные несвежие волосы, она пошла к двери. Посмотрела с гримасой на елку, на столик, где грудами высилась грязь и в тарелках лежали окурки. Недовольно сняла всю посуду и составила на пол, под елку, взяла со стула клетчатую рубашку, плеснула на столик водки, рубашкой размыла жир, черный пепел, присохший портвейн и вытерла полированную поверхность насухо и до блеска.
— Елка осыпалась. Глупо… Выпьете водки?
— Я не пью с утра.
Она пожала плечом. Ушла, возвратилась, шаркая тапочками, с мокрой тряпкой, еще раз утомленно вытерла столик, безнадежно осмотрела комнату и ушла.
Возвратилась она минут через двадцать, умытая и небрежно расчесанная, с палехским круглым подносом в руках. На черном блестящем лаке и ярких цветах подноса стояли холодная, запотевшая водка, бутылка кефира, вкусного даже на вид, высокая рюмка с золотым ободком, высокий стаканчик с цветным изображением старинного автомобиля, перец, уксус, горчица в высоких граненых флаконах и тонкие, не для вчерашних гостей, тарелочки с золотой каемкой, — ресторанное рыбное заливное, похожее на осетрину, тонко нарезанные булка и серый хлеб, две горячие, мокрые, только что сваренные сардельки. Вилка, нож, льняная салфетка, сигареты и зажигалка. Сигареты были английскими, зажигалка австрийской.
Поставив поднос на стол, она села, откинула назад волосы, налила и спокойно выпила высокую рюмку водки, запила кефиром и вытерла губки салфеткой, съела рыбу, полив ее уксусом и поперчив, аккуратно откусывая от тонкой дольки серого хлеба, намазала маслом кружочек булки, выпила еще рюмку водки и съела обе сардельки, аккуратно разделывая их вилкой и ножом и макая каждый кусочек в крупную каплю горчицы и лужицу уксуса. Допила кефир, вытерла губки салфеткой и закурила.
При всем этом она была задумчива в том роде задумчивости, когда, занявшись едой в одиночестве, люди думают о чем-то необязательном и очень далеком от всего, что сейчас вокруг них, всего, что было недавно и что может случиться вскоре.
Читать дальше