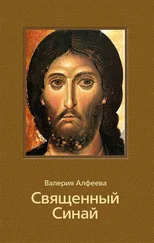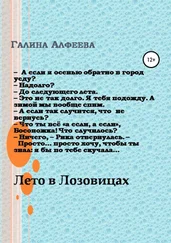— Не надо смягчать, если хотите слышать правду. Наоборот, вы должны соглашаться, говорить: «Да, и вот еще был случай…» А вам удобней оставаться при своих мнениях. Тогда зачем разговаривать? Ну что еще вы хотите сказать?
Вот и весь состав пошел под откос. В его разгоне еще успел выплеснуться осадок от разговора с Арчилом и Венедиктом.
— С какой высоты вы нас судите…
— Вы так хотели.
— Я так и хочу. Но вот Венедикт мне объяснял сегодня, что женщина это соблазн, как вы это оцениваете со своей высоты? Он опустил глаза.
— Нравится вам это или нет — так монахи видят женщин.
— Но если в половине человеческого рода видеть не христиан, не людей вообще, а только соблазн… и слово-то какое нечистое… как это совместить с Богом и христианской любовью?
— Вы забываете, что есть и дьявол… недооцениваете его роль. Теперь лицо отца Михаила было закрыто, как дом с опущенными ставнями. Вы будто думаете, что христианство — только праздник с вербами и свечами. А после входа в Иерусалим и была Голгофа. Давалась бы эта любовь даром, кто бы не согласился стать христианином? Но чем выше человек старается подняться, тем больше зла он должен победить в себе и вокруг. И зло ему мстит. Это кровавая война — не на жизнь, а на смерть. Потому что ставка большая: судьба души в вечности. И женщина может быть ловушкой в этой войне, и сама человеческая природа…
Мы молча сидели друг против друга, когда вошел Венедикт, смерив нас неодобрительным взглядом.
Игумен усмехнулся, как человек провинившийся и застигнутый врасплох, и поднялся ему навстречу.
Я сидела, привалившись спиной к стогу. Над свежей зеленью луга все так же светились фонарики мальв. Стрекозы мерцали прозрачными крыльями в прозрачной синеве, шмели гудели. Вблизи все заливал слепящий золотой свет. Рельефно и резко обозначились деревья, ветки, каждый лист на просвеченных солнцем зеленых кронах. Бродила, тяжело ступая, лоснилась на солнце рыже-коричневым, пофыркивала лошадь, отгоняя хвостом слепней. За ней, за деревьями на обрыве и ущельем, на четко отделенном и дальнем втором плане проступали горы сквозь густое белесое марево. Звенели цикады, струился зной, день был полон света, как Божие благословение.
А у меня не было сил, чтобы подняться и уйти подальше от Джвари. Слишком резко все кончилось, и это меня подкосило.
Кто-нибудь мог выйти на поляну, а я уже не могла никого видеть. Я поднялась, пошла по тропе через лес в сторону монастырских давилен: когда-то монахи сами делали виноградное вино. Там еще остались окованные крышки над чанами, врытыми в землю, и задернутое ряской болотце.
За ним я спустилась по едва приметной тропинке к обрыву и легла на траву.
Внизу шумела река, и неподвижно стояли вокруг деревья. Ни сил не было, ни горечи, ни мыслей, а слезы лились и лились, и мне не хотелось сдерживать их. Сладко пахло хвоей, нагретой землей, сухими листьями. Чуик-чуик!.. чуик-чуик!.. — говорила в кустах невидимая птица, и этот прозрачный, чистый, высокий звук тоже отзывался во мне слезами. Сквозь них я видела стебли травы, желтый обрыв другого берега, облака над ним.
Потом и слезы иссякли.
Такая глубокая снизошла тишина, какой никогда я не слышала в себе раньше. Дальнее и ближнее прошлое, слова, слезы-все затонуло в ней. Осталось только то, что было здесь и теперь. Но это здесь и теперь стало прозрачно для света и Бога.
Мерно шумела внизу река. Бабочка с золотым и черным орнаментом подкрылий, перевернутая на провисшей травинке, сама травинка, пальцы моей руки пропускали солнце, и пятна солнца лежали на траве. Я видела рисунок линий на своей ладони, пересекающиеся, переплетающиеся линии и штрихи, в которых можно было найти линию жизни и линию скорби, любви… Вчера в эту слабую плоть вошел Бог, и Он еще жил в ней. Моими заплаканными глазами Он смотрел на крыло бабочки, узор коры, на сотворенные Им Самим день и лес. И между Ним и миром не было ни преграды, ни расстояния. Он был во мне, лежащей на траве, и вокруг, а я светло, благодарно и полно ощущала Его присутствие.
Иногда я говорила Ему слова, которых нельзя повторить. В другое время мы с Ним молчали. Но в этом молчании мне было сказано то, без чего моя прежняя жизнь, захлестнутая потоком своих и чужих слов, оставалась пустой.
Так прошло три-четыре часа.
И если девятнадцать дней в Джвари — лучшие в моей жизни, то эти часы — сердцевина прожитых там дней.
Садилось солнце, я шла босиком по каменистому дну реки. А Тишину я несла в себе, боясь расплескать. Мне хотелось так и уйти по реке из монастыря и больше туда не вернуться. Видеть кого-нибудь, произносить ненужные слова было бы непосильно.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
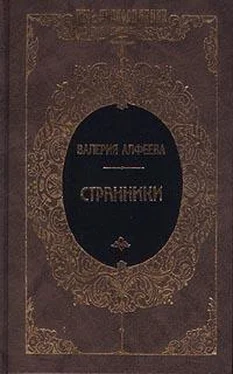



![Лина Алфеева - Жена поневоле, или Все хотят Люси [publisher - ИДДК]](/books/384199/lina-alfeeva-zhena-ponevole-ili-vse-hotyat-lyusi-9-thumb.webp)