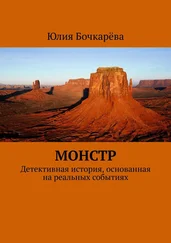Чей грех стал решающим, пусть даже и легкий, как выпавшее перо попугая (им я пишу эти истерические строки), которое сделало поднятую тяжесть невыносимой? Мы переглянулись тайком.
Правду, правду, какой бы невероятной она ни была, — требовал, скрежеща, Деспот, пока мы расчищали сцену и непрестанно назначали репетиции ничтожества.
Но когда мы с недоверием пялились на человека, соскользнувшего с ночной вазы, ожидая сбивчивого разъяснения неловкого представления, циничного нравоучения, то вдруг услышали страшный стук, призрачные удары мертвого барабанщика, крикуна, эпилептика, Муна или Бонэма, мы оглядывались в поисках источника, Иоаким с бумажными усиками и в наполеоновской треуголке, и я, Андреутин без страны, без ничего. После чего как по команде повернулись к лежачему больному.
После минутного замешательства мы поняли, это его сердце стучит так дико, что потерявший сознание человек подпрыгивает, отрывается от поверхности, моментами левитируя, несчастный истощенный йог. Он ритмично дергался на полу, как заколотое животное. И только позже мы заметили, что у него на губах выступила пена. Что лицо его кривится и растягивается, что белки его глаз пульсируют, и из них хлещет кровь, будто ядовитый, соленый гейзер…
В это мгновение (пока я стоял перед телом, размазанным по доскам) меня впервые осенило, что Ладислав был дутым Кишем, что в нем могло поместиться три худощавых Киша, семь суетливых гномов, он был настоящей свиньей, Орсоном Уэллсом у четников, с болтающейся на животе килой, с собственными скользкими кишками, обмотавшими шею словно воротник висельника.

Воротник! Хочу, чтобы это был воротник, — требовал растроганно Деспот, прилепляя на лоб бумажку со знаком «судьи».
Не понимаем, о чем ты, — пожимали плечами мы с Иоакимом, после чего законодатель лично, с блеском сумоиста, в скафандре на лице, молча спускался на землю, одной рукой хватал «вора» за шею, удушая якобы приемом дзюдо. Смотри, вот это воротник, думал я, медленно исчезая.
Какой день! — хотел я потом крикнуть сверху заключенным, вышедшим из удушливой качалки, где они поднимали друг друга, и посреди круга, холодные от пота, закуривали, повиснув на остром солнечном луче, прорвавшемся сквозь циклопическое облако. Здесь всем нужна твердая рука, — заметил Ладислав, обняв меня, и подул на разливающийся голубоватый синяк, наполовину скрытый большой пуговицей. Нам нужен большой босс, — хрипло продолжил он, и выбросил книгу за решетку. Несколько воспитанников попытались подхватить ее в воздухе (она падала долго, как своенравное перо), точно так, как еще мгновение тому боролись за режущую солнечную нить.
Потом нам и вправду показали тот фильм, и все плакали в темноте.
Месть сладка, моя месть, шептал давно скончавшийся гибкий Ли. Граф Монте-Кристо сбежал из узилища. Бог законсервирован во фреске, как в глубоком сейфе или во сне.
Пустите нас на войну, — слышалось из задних рядов. С американцами, — встрял бы и господин начальник, скидывая ботинок! Я подарю им радость, клялся я, просветленный. Мы будем играть «Большого босса», начальник, чуть не брякнул я, мы будем снимать это старое кино.
И я все отчетливее понимал, что машина времени и спиритический сеанс — практически одно и то же, что все дело в скорости и отвлечении внимания. Я все думал, можно ли вызвать томящийся дух Верима, и приглядывался к его неподвижным ногтям. У меня, у старика, воры выкрали быка… Дуй в рог. Начинай!
Ладислав считал, что надо поставить оперу кунг-фу, в которой самураи летают. Некая форма инсценировки Боксерского восстания, желтой опасности и золотой лихорадки, понимаешь? Пьеса с пением и криками. Лед бы разбивали ладонями, голые пальцы засовывали бы в пылающие угли. Старые Огненные Кулаки. (Не это ли имел в виду Карл Май?) Раз уж мы об этом, то будем общаться молча, чистым безмятежным чувством, как Виннету и Шаттерхенд, в пантомиме, которая венчает Дикий Запад и Дальний Восток, если выражаться цветисто.
Это мы уже видели, — обрывал я его, этот брак Куросавы и вестерна, — это уже мы знаем.
Но мы расшатаем устои жанра, — упорно убеждал меня Ладислав, — он станет обыденным, как соседский нос или бесконечное хайку! Впрочем, — добавлял он, — я и пишу со злости, когда меня кто-нибудь обидит. Показываю зубы.
Читать дальше