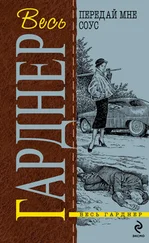Изольда покуривала, отложив бубен. Матрос лениво переругивался с поручиком. Полковник лежал на кровати и, казалось, дремал. Доктор зачем-то вынул кольт и положил его на колени.
Звуки тимпана смолкли. Центр вселенной остался далеко позади (хотя нет ничего позади, все впереди). Под ним была Земля, пригревшаяся на мохнатой груди человечества. И тот же плясатель, возможно, автор видений, хотя и необязательный персонаж этих грез, махал ему с облака.
Он пронесся над земной поверхностью, как над картой этого мира, ширяя вширь, выспрь. Лес, что лесенкой спускался с горы, показался ему знакомым, и он завис, паря, словно орел или Ариэль, над этим рельефом.
Лес мог менять свои краски: фиолетовый, желтый, зеленый, но не произвольно, а повинуясь мне. Он понял, что эта игра красок вызвана мириадами драгоценных камней, которыми были увешаны ветви, усыпана почва, их громоздились кучи, холмы. И поскольку сам был свет, то мог играть ими так, как мне заблагорассудится, придавая тот или иной блеск их граням. Но, несмотря на это сиянье, полным покоем дышала почва, в которую хотелось лечь, зарыться в грунт, в груды камней, самому самородком стать. Он невольно раскрыл рот, полный всех положительных чувств, которые в сумме дают блаженство.
Танцующий Танатос спустился с облака и уже из лесу мне махал.
- Клянусь в присутствии умерших, - сказал матрос, - никогда не видел столько блаженства на одном лице. Словно космического оргазма вкусил.
- Ах, уймитесь вы со своей драгоценной эрекцией, - сказала Изольда, пытаясь отнять у него перо, которым он втайне от доктора щекотал босую подошву сновидца.
Игривость еще не сошла с лица моряка, как он, слетев с табурета, очутился вдруг на полу, получив оплеуху от доктора, от которого не ожидал.
Прозрачные тела, пронзаемые друг другом... Свет, тень... Клочок тьмы, вырванный из нирваны, он рванулся туда, но, встретив на своем пути удивление - удивились ему в мире ином - отвернул.
Раздался выстрел, штукатурка посыпалась с потолка, матрос метнулся под стол, решив, что доктор решил продолжить разборки с ним более эффективным способом, с грохотом и пальбой, хотя не мог взять себе в толк, за что его вдруг опять невзлюбили.
- Что? - встрепенулась Изольда. - Мы его потеряли?
- Прихвачен. Изольда, тимпан!
Что-то рвануло, ринулись в разные стороны клочки материи, включая ту, из которой он состоял. Ничего не стало вокруг, кроме белого фона, этим фоном был он.
Надо припомнить... Воссоздать... Ощущение: если вспомню - вернусь, а нет - совсем потеряю себя, и последним напряжением - воли? мысли? - всем этим белым, что только и оставалось в нем, он оживил воображение, дал мысли ход, словно космос в движенье привел.
Целая вечность минула, покуда на белом-белом не стали проступать - словно голос внеземного разума на космическом фоне, словно неопознанные импульсы из бессознательного - цветные пятна, образуя фигуры каких-то существ, названья которым пока не было, вернее, было, но пока не всплыло. Ощущение космоса было как-то связано с этими формами, которые все более выделялись, выступали из глади, как барельеф, образуя свору из семи... свору из семи... звуки бубна, проблеск пра-памяти, вот он шаманит, с собачьей мордой на голове... да - псов, и едва название это припомнилось, как семеро слились в одного, который, добродушно махнув хвостом, сунул его себе в пасть.
- Если еще раз сунетесь близко, я вас, клянусь Господом, пристрелю, - сказал доктор. Матрос выбрался из-под стола и сел в стороне. - Думаю, теперь обойдется. Изольда, не теряйте темп.
В ритмы бубна вплелись переливы свирели. Он пустился туда, откуда доносился напев.
Посреди чиста поля стоял железнодорожный состав. Мужичок в телогрейке сидел на насыпи и наигрывал, но не рассеянно-самозабвенно, как, бывает, насвистывают себе под нос, например, 'Утро в Финляндии', а так, словно это наигрыванье было ему в обязанность вменено и осточертело, как если бы сзади стоял с винтовкой конвой и всякое саботирование считалось попыткой к бегству и пресекалось прицельной стрельбой. Но вместо конвоя был прежний плясатель, это он, приплясывая, в бубен бил. Человек в телогрейке имел красную шапку на голове, а на вид ему было лет пятьдесят.
На голос дудки со всех концов света стекались люди и рассаживались по вагонам, радовались чему-то, словно небо седьмое себе обрели. Вдоль состава во множестве бегали собаки, видно, с ними не пускали в вагон, и отъезжающие вынуждены были их бросать посреди степи.
Читать дальше