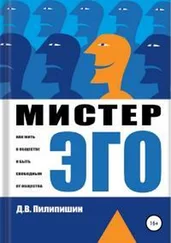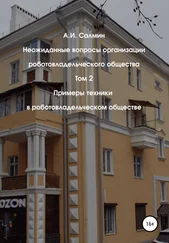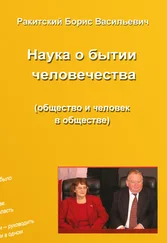- Надеюсь, вы нынче в здравом уме? Здравствуйте! - первым поприветствовал нас он, хотя современный этикет наделяет этой обязанностью входящего. Но со словоохотливыми людьми такое бывает.
Я заметил, что к Маргулису бородатый мыслитель отнесся более холодно, чем ко мне, и даже первое время старался его не замечать. Но моего спутника это не смутило и не озаботило и, сунув руки в карманы, он всецело погрузился в созерцание окружающего.
- Так вы, я слышал, сочинительством занимаетесь? - обратился ко мне тот, которого мы в дальнейшем будем именовать Сидоров, или Сердюк, или Середа, или философ, или грек - во избежание путаницы, в зависимости от настроения или ритма, требуемого для построения фразы, а так же для собственного удобства, ибо реестр всех его имен в моих записных книжках до сих пор не полон.
Я в смущении отвел взгляд. Тогда еще я стеснялся своих первых литературных опытов, я потупился и забормотал что-то насчет того, что да, мол, пописываю, но только с недавних пор, а что касается сочинительства, то, видите ли... как вам сказать... этого в моем творчестве нет. И не предвидится, поскольку правду... как ее... истину, факты... как ее, черт... действительность... свой подлинный внутренний мир...
- И о чем же вы пишете? - спросил меня грек.
- На простынях, - сказал я, не расслышав вопрос. Но тут же спохватился. - Ах, о чем?
Странно, не правда ли? Вопрос поставил меня в тупик. Действительно, о чем? О Лукоморье? О сексе? О граде? О сочувствии ближнему? Сожалении прошлому? О, наконец, любви? Нет, ничего похожего из перечисленных тем я не затевал. Знаю только одно: ничего выдуманного из головы, высосанного из пальца, выковырянного из носу в этих моих записках нет.
- За мной тоже всё один писатель ходил, - продолжал философ, глядя на меня ласково. - Мои мысли записывал. А потом с этими мыслями - в компетентный комитет. - Он вздохнул. - Впрочем, про некого мыслителя, перевернувшего современные представления о мироздании, вы, я думаю, тоже наслышаны. Так вот, это я. А это - мои вещи и юноши.
И плавным жестом правой пуки он предложил моему вниманию пространство комнаты со всем тем, что оно содержало. Я, следуя его жесту, впервые тщательно огляделся.
Юноши отворачивались, не давали себя рассмотреть. Впрочем, это все были люди зрелые, сорока, приблизительно, лет. Вещи тоже большей частью были поношенные: гусарский ментик, фрак с чьего-то плеча, дамская накидка, небрежно брошенная на подоконник, и пр. Обращал на себя внимание тусклый портрет барышни в чем-то кисейном, воздушном, облачном, пристроенный в простенке, а чуть ниже - случайно или нет - на вбитом в стену гвозде свисала черной плетеной петлей плеть.
- Это, действительно, Натальина мантилья, - сказал грек, слегка покраснев. Я вспомнил, что общение с женщинами не считалось среди греков возвышенным. - А так все мое: китель, фрак... Молот, коим кую. Крушу тоже им, впрочем.
Молот, размеров внушительных, занимал собой угол комнаты.
- А вы ведь, простите, недавно у нас? Видно, что вас еще не коснулось госпитальное воспитание. Вам известно, что люди воспитанные дольше живут и умирают, как правило, своей смертью?
Произнеся эту фразу, он бросил короткий взгляд на плеть, без которой, видимо, считал мое воспитание не полным, и я внутренне содрогнулся, представив, как это орудие совершенствования юношей, сплетенное из воловьих жил, гуляет по моей спине.
- Обо мне всякое говорят, - продолжал философ, и взгляд его вновь обрел бархатистость. - Мы, нетипичные, являемся удобной мишенью для пересудов. Утверждают даже, что мой гений тронут безумием. Я игнорирую подобные выпады. Ибо безумие есть зачастую не что иное, как разум внеземного происхождения. Хотя я признаюсь вам - хотите? - чем-то вы мне симпатичны. Я, знаете, рад в человеке любому значению, отличному от нуля, а в вас определенное значение имеется - так вот, вам - признаюсь, что моё, так называемое безумие носит защитный характер. Это имитация, симуляция, подделка, мостырка, бутлег. Надоумил один лепила, когда я отбывал пожизненное за грошовый грабеж.
- Отбыли? - Это был, кажется, первый вопрос, который я осмелился задать этому ученому и, несмотря на ласковость, сумрачному человеку.
- Полностью, - ответил он. - От звонка до звонка.
Я почувствовал к нему невольное уважение, какое к человеку, отбывшему срок, испытывает всякий не сидевший российский мужчина, раскованный, непредубежденный, без социальных комплексов, средних лет, для которого в этом смысле еще не все потеряно. Но одно существенное, несовместимое с жизнью противоречие в его словах от меня не укрылось.
Читать дальше