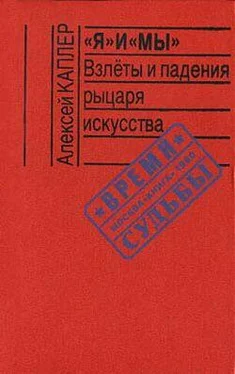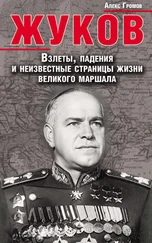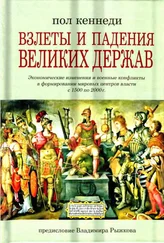Сколько колоритных типов встречал я в Одессе тех лет! Одним из первых моих знакомцев стал Юдка-дивертисмент.
Приехав впервые в Одессу – было сие в 1925 году, – я, естественно, повсюду искал признаки истинной «Одессы-мамы». Все поражало в быте этого города: удивительные обороты русской речи, манера обращения – «мужчина!», «женщина!», – легкость, с какой возникал разговор между незнакомыми людьми, типаж одесситов, их склонность философствовать. Но я был жестоко наказан за свой интерес к этой экзотике.
В первый же день по приезде я увидел на бульваре перед гостиницей беспризорника лет двенадцати. Он стоял, заложив руки в карманы рваных штанов, и скороговоркой рассказывал свою красочную биографию. Несколько сердобольных одесситов пожертвовали артисту некоторую мелочь. Они, видимо, хорошо знали его и называли Юдкой.
Высшая степень восторга овладела мной. Подумать только – в первый же день наткнуться на такой фольклор! Невозможно упустить уникальный случай!
Я подошел к Юдке после «сеанса» и предложил медленно повторить весь текст так, чтобы я мог записать его.
Юдка посмотрел на меня, дернул тонкой шеей и произнес с неповторимой одесской интонацией:
– Почему нет?
Мы сговорились на том, что Юдка декламирует, а я плачу один рубль. Сели на скамью.
– Покажь рубль, – сказал недоверчивый Юдка.
Я показал.
Голова у Юдки то и дело дергалась на длинной шее, по лицу пробегал тик.
Я открыл блокнот и начал записывать. (Боже, как же мне потом стыдно было вспоминать об этой своей позиции!)
«Я, Юдка Деврентисмент, сын квартала. Моя мать уехала с американцем по закону. Юдка остается на улице. Улица для улицы. Вот бегут бабы-бублики, мальчишки-папиросы. Что такое? Что за крик? Что за шум? Это Юдка! Он лежит на мостовую! Он кричит! Он симулировает!..»
Долго я записывал. Останавливал артиста, заставлял повторять. И, наконец, совершенно счастливый, отпустил его и откинулся на спинку скамьи.
Сзади раздался хриплый голос:
– Писатель, добавь еще рубля… – И, не дождавшись отказа: – Ну, ну, не хочешь рубля – дай карандаша.
Он получил мой механический карандаш, а я в тот же вечер отправился к друзьям, нетерпеливо желая похвастаться драгоценной находкой.
– Вот вы сидите здесь в Одессе, – сказал я им, – на драгоценном фольклоре и не пытаетесь даже его записать…
Когда я стал читать текст Юдки, на мгновение наступило удивленное молчание, мои друзья переглянулись и захохотали.
Я долго не мог добиться объяснений. От меня отмахивались и смеялись.
Мне показалось это оскорбительным, и я собрался уходить. Тогда, утирая слезы, мой приятель объяснил, что Юдка заучил наизусть фельетон Ал. Светлова – известного журналиста, напечатанный в «Вечерней Одессе»!
А я-то сидел добрый час, скорчившись на бульварной скамейке, и добросовестно записывал со слов проклятого Юдки фельетон из одесской «Вечерки»!
Со смехом моих друзей я бы примирился, но воображаю, как смеялся над «фраером» Юдка!
С раннего детства заявилось у Робки Бойцова этакое неудобное свойство: надо не надо – говорить правду.
Нет даже и необходимости высказывать правду, а она возьмет да и сама сорвется.
Бывало, ребята нашалят, напакостничают и молчат, конечно, не признаются. А Робка скажет.
Лупили его за это частенько. Потом поняли, что не ябеда он – просто чудак, а может быть, даже больной в этом отношении.
И в музыкальной школе, где Роберт учился по классу скрипки, тоже бывали на этой почве неприятности.
И вырос Бойцов, стал взрослым, а неудачное качество это каким было, таким и осталось.
Квартировал Роба во дворе почти сплошь музыкантском.
Здесь жили несколько оркестрантов городского оперного театра, а остальные просто «лабухи», как они сами именовали себя на музыкантском жаргоне.
В том тысяча девятьсот двадцать шестом году лабухи играли в основном на свадьбах и похоронах. А старый поляк пан Пухальский был тапером маленького окраинного кинотеатрика «Гран-Палас».
И жил, как сказано, в этом дворе Роберт Бойцов, Робка-лопух, сын лабуха, внук лабуха и сам музыкант. Хотя Роба и учился по классу скрипки, а стал ударником в оркестре оперного театра. Он сидел справа, у самого края оркестровой ямы, бил в барабан, в медные тарелки и позванивал в звонкий треугольник.
Был у Робки абсолютный слух, абсолютное чувство ритма и торчащие лопухами уши.
В оркестре он играл уже два года.
Все свободное время читал. Робка был страстным любителем чтения. Он глотал книги с неимоверной скоростью – все подряд, беря их у мальчиков из соседнего «докторского» дома. Читал все, что попадалось, – Жюля Верна и Пушкина вперемешку с «Профграмотой» Розенфельда, Стивенсона и Гоголя, Флобера и исторический материализм, Блока и старые выпуски Ната Пинкертона, Ника Картера и Ирмы Дацар. И тома энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона и Антона Кречета.
Читать дальше