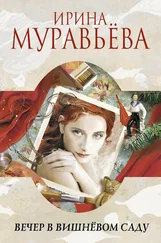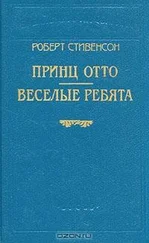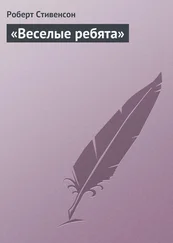Подчинившись неразумному желанию уничтожить друг друга, оба комсомольца принялись топтаться на грязном, подтаявшем за утро снегу, обагряя его свежей кровью, которая, словно бы обрадовавшись свободе, начала вольно и радостно вытекать то из костлявой груди мальчика Иванова, то из раздувшихся ноздрей молодого Геннадия, образовывая на грязном снегу вокруг жаркие пурпурные сгустки, похожие на ягоды перезревшей рябины. Наконец они сцепились так крепко, что уже не было понятно, кто есть кто и где находится в данную секунду каждый из них, потому что они не существовали по отдельности, и даже лица молодых людей перестали дышать индивидуально, а дышали лишь общей, враждебной и хлюпающей внутри их единства мокротой.
Чернецкая стояла у окна второго этажа и смотрела вниз. Она видела, как они убивают друг друга, и радовалась этому. Она радовалась тому, что молодой Орлов, отец их неродившегося ребенка, не переставал, оказывается, любить и желать ее. Сейчас она стала свидетельницей этой любви и желания. Он хотел, чтобы мальчика Иванова, которого Чернецкая — по женской мстительности и жестокости — впустила на часок-другой погулять внутри своего нежного тела, не было больше, чтобы от него остались одни только окровавленные рожки да ножки, но ведь никакой другой причины убивать Иванова, кроме любви к ее нежному телу, не было и не могло быть у самолюбивого Геннадия Орлова. Чернецкой захотелось даже, чтобы погибли они оба, чтобы они упали рядом на грязный окровавленный снег — без малейших признаков жизни, без дыхания, стали восковыми и неподвижными, — и тогда она сможет сказать всем, всем, всем, что это была — да, ЛЮБОВЬ! — что двое прекрасных юношей умерли потому, что она так и не смогла решить, кто из двоих ей нужен, а просто стояла и смотрела на ихнюю смерть из окна, и на душе у нее пели скрипки.
Комсомольцев наконец растащили, и князь Куракин, выудив из кармана скомканный носовой платок, приложил его к разбитому лицу мальчика Иванова своими трясущимися и добрыми руками. Орлов же, отказавшись от помощи, стряхнул с разодранной одежды прилипший к ней снег, поднял голову и увидел Чернецкую, застывшую на подоконнике второго этажа. Тогда он усмехнулся, хотя рот его был уродливо распухшим и тоненькая затихающая струйка крови ползла по подбородку. Чернецкая не шевелилась. Она почувствовала себя так, как молодая, недавно еще строптивая змея чувствует себя в руках опытного и безжалостного факира, первый раз приволокшего ее на воскресный базар и разложившего посреди базара вылинявший персидский коврик для предстоящего выступления. И несмотря на то, что змея долго ждала этой минуты, чтобы либо уползти на свободу, либо до смерти искусать бритоголового факира, сейчас — когда он уже разложил коврик для выступления — она вдруг поняла, что ползти некуда, никакой свободы, кроме этих тонких, унизанных кольцами любимых рук, нет на свете и не бывает, поэтому остается лишь, нежно шипя, исцеловать их жгучим своим языком да побыстрей приступить к извивающемуся танцу под сладко-мучительную и властную дудку.
— Ну как? — задыхаясь, спросил окровавленный Орлов, поднявшись на второй этаж и близко подойдя к ней. — Ничего себе было? Не скучала?
— Ге-е-ен-а-а, — простонала Чернецкая и тихо протянула руки к его изуродованному лицу.
Тогда он не выдержал и обнял ее. В коридоре, как ни странно, никого в этот час не оказалось, уроки давно кончились, и, дорвавшись, молодой Орлов покрыл поцелуями своего разбитого и распухшего рта ее нежное лицо и медом пахнущую шею.
— Тебе больно? — шептала Чернецкая, вздрагивая под поцелуями горячего орловского рта. — Тебе правда не очень больно?
— Молчи-и-и, — простонал он в ответ и вдруг, словно испугавшись, что она обидится, пробормотал что-то странное: — Солнышко ты мое…
Он и сам не знал, какими судьбами вырвалось из него это «солнышко». Может быть, вспомнились напевы тихой и родной бабушки его, старушки Лежневой, которая баюкала молодого Орлова по старинке, нежной лермонтовской колыбельной, где мать-казачка баюкает своего младенца, хотя отлично знает, что недолго пролежит он в уютной люльке, недолго прочмокает во сне сладкими от материнского молока губами, потому что — не успеешь оглянуться — вырастет чернобровый казак, вскочит на горячую лошадь и «махнет рукой». Да, все это было, было, бормотала ему бабушка и лермонтовскую колыбельную, и «придет серенький волчок, тебя схватит за бочок», и «спи, солнышко мое, спи, моя деточка», и вот все это вдруг прорвалось, потому что есть свои законы у нежного душевного движения, которое вкладывает в разбитые и окровавленные мужские рты абсолютно чужие, казалось бы, слова и даже интонацию их повторяет. Так вот и бормочет себе, с придыханием: «солны-ышка-а ты мое-е…»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу