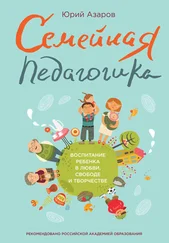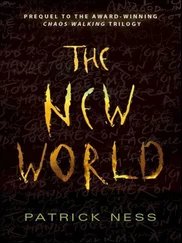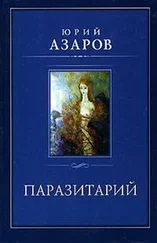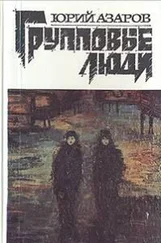Все чаще и чаще я слышу чудный мотив: дети спасут мир. Они, сегодняшние дети, спасут цивилизацию! Потому и только потому я для себя повторяю: воспитание — это все! Потому и только потому, читая написанное, я с трепетом сохраняю в тексте шпаги, плащи, девизы!
Потому и только потому я жажду жесткой определенности в толковании величайших ценностей века! Потому и сидит во мне вселенский спор о смысле жизни, о необходимости непременной борьбы за бескомпромиссность нравственных норм и нравственного поведения, спор, который имеет прямое отношение к жизни каждого взрослого человека, каждого ребенка, всех человеческих общностей. Существо этого спора представлено в этом эпилоге. Я оставил его таким, каким он был написан в те далекие времена, когда в душе все пело, когда настоящие д'артаньянство и донкихотство всецело захватили мою душу. Я лишь позволил себе дать те пояснения, которые мне показались необходимыми, поскольку определенно говорят о тесной связи моего сегодняшнего «я» с прежним.
Я уезжал из Нового Света в самом счастливом расположении духа. Так, должно быть, чувствовали себя первооткрыватели новых земель, покидавшие найденные острова и материки.
Я забился в уголочек кузова машины (мама в кабине), мне было уютно, и, наверное, от этого легко и весело думалось. Прекрасные предчувствия теснили мою грудь. Не мог я тогда догадываться, что пройдет много лет и силами Славы Деревян-ко, Маши Куропаткиной, Саши Злыдня и Коли Почечкина здесь, в Новом Свете, рядом с музеем будет выстроена школа, в которой будут так же мучительно решаться современные проблемы становления человеческой личности.
Я закрывал глаза и ощущал, как теплые волны моего воображения несли меня над созданным нами изобилием, над ухоженной территорией школы, где оприходованное снова расприходовали, где из самой радости вырастала новая радость, где смиренно ждали своей участи Майка, Васька и старая Эльба. Всем телом я ощущал, как прекрасен этот живой и многообещающий мир. Эта земля, где нами разбитые сады зеленели, и озимая пшеница изумрудом переливалась, и реками быстротечными опоясаны были луга и долины, и вода родников чистой прохладой отдавала, и солнечные лучи, дрожа и мерцая, доходили до самого дна речушек и озер, чистых речушек и озер, где огромные счастливые рыбы застыли в прогретой незамутненности. А нас несло все дальше и дальше, нет, не к жаркому икаровскому солнцу, где опасная, хоть и вечная, гибель затаилась, а вдоль земли несло, туда, где Нагнибеда жил, где Омелькин только что крикнул из окна:
— Ну, слава богу, пронесло с этим Новым Светом. Быстрее убирайтесь оттуда.
— Быстрее не получится, богатством надо как-то распорядиться, — отвечал Шаров.
— Списывайте и сжигайте все. Не то время, чтобы глаза мозолить.
— Это верно, — согласился Шаров.
— Поедешь в школу маленькую. Ни электричества там, ни магазинов, крышу ветром сдуло, но есть речушка и озерко…
— Хорошо, — сказал Шаров. — А сколько учеников?
— Не то восемь, не то двенадцать, — ответил Омелькин. — А Попова пристроили. Школу-гигант даем ему. Пусть выезжает…
— Уже поехал туда. К вечеру будет на месте. Нагнибеда в другом окошке, тепло-оранжевом окошке, вставленном в темноту, схватил трубочку и сказал:
— Нагнибеда!
— Чего нагни? — спросили на другом конце провода.
— Я — Нагнибеда! — закричал человек, выбрасывая в окошко пачку скоросшивателей. — Сысоечкина не трогать!
— Будет сделано, — был ответ.
Нагнибеда нажал рычаг и набрал номер Росомахи. Марафонова приподняла трубку и жестким голосом сказала.:
— Вы ошиблись.
— у этого борова еще и романы, — сказал Нагнибеда и расхохотался.
И хохот его смешался с причудливостью солнечных волн, которые понесли меня в самую дальнюю даль, на самую окраину города, в котором жил Омелькин, в котором жил Нагнибе-да и в котором уже решалась моя судьба. Каким же образом в этом прекрасном мире так неистово переплетено уродливое и возвышенное? Каким же образом выплескивается из мрака живое чудо бытия, из кромешной тьмы высекаются святые знамения? Неудержимая сила взорвала вдруг горизонт, полоснула по нему остатками хохота, смешавшегося с гулом и свистом, идущим, должно быть, от бочек, спущенных с прикола Росомахой, которые понеслись с неба и стукнулись мягко и глухо в сажу газовую. «Это же свалка!» — пронеслась у меня мысль.
— Ничего подобного, — раздался чарующий голос, и я увидел сплетенные узором четыре руки на фоне краплаковых яблоневых стволов. И земля была усыпана цветами, на которые ступали три грации. Я их сразу узнал: туника из прозрачной ткани слабо волнилась божественным покоем плоти, плоти, летящей вверх, но не отрывавшейся от земли. И юноша в пурпурном плаще, со шпагой на бедре рассматривал голубой кусок неба.
Читать дальше