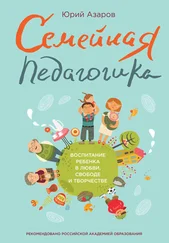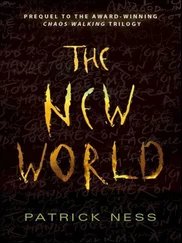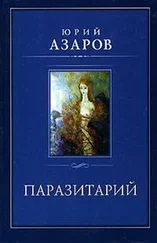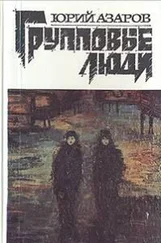— Да, фехтовальщик широкого профиля — это такой игрок, который одновременно мог бы быть и левшой и правшой.
— В зависимости от обстановки? — спросил инспектор.
— Ни в коем случае! Расширения репертуара фехтовальщика необходимо достичь за счет внутренних резервов. А это значит, что правая рука прежде всего должна обладать всеми достоинствами левой, и наоборот. В этом все дело.
— И что это даст?
— Это даст удивительный эффект! Во-первых, правая рука всегда будет знать о замыслах левой. А левая приобретет союзника, и тогда атаки с неизвестными окончаниями станут целенаправленными, то есть такими, какими нужно. Эта сдвоенность усилий приведет к тому, что дети смогут одновременно выполнять два дела, скажем, одной рукой задачки решать, а другой — строгать, сверлить, то есть включаться. в такую техническую работу, которая будет стимулировать работу мозга.
— Вы тоже разделяете это? — спросил у меня Белль-Ланкастерский.
— Нет, я этого не разделяю, — ответил я. — Надо остановиться на природном и естественном варианте, то есть чуть-чуть расширить возможности фехтовальщика: снять страх, прибавить решительности, воспитать волю. В природе все гармонично, и граница между левой и правой рукой должна быть.
— Да-да, — поддержал меня Белль-Ланкастерский, — но все равно это безумно интересно. Так что готовьте, Константин Захарович, доклад на августовские совещания. У нас там намечается и фехтовальная секция.
И Шаров делал доклад под шумную овацию зала, в порах которого все же была некоторая недоверительность. Но эта недоверительность была снята Омелькиным, потому как сразу после доклада, в конце совещания, Шарова позвали в президиум: награду ему большую вручили за перевыполнение всех показателей, и Омелькин лично обнял Шарова и при всех расцеловал трижды. После тех вершинных событий, когда все достигло своего высшего накала, и повалили к нам в школу будущего корреспонденты, которых почему-то как огня боялся Шаров, и когда его щелкали фотоаппаратами, он, будто привычно, выносил руку вперед, чтобы закрыть лицо, точно его снимали не для центральной прессы, а для черной какой-нибудь расхитительно-отрезвительной доски. Так и сохранилось потом сто двадцать шесть фотографий, где Шаров снят с закрытым лицом. Как бы то ни было, но тогда и этот факт самозащиты расценивался как высочайшая человеческая скромность. К тому же, все это знали, Шаров был добр. По всей области можно было обнаружить следы материализованной шаровской доброты. По всей области торчали саженцы, вывезенные из Нового Света, крякали утки, кудахтали куры, использовалось различное оборудование, которое из-за постоянного обновления передавал Шаров другим школам.
Но все это было до того мерзкого случая, когда Сысоечкин гнусную тетрадочку завел, когда его первородная честность, за которую он так полюбился Шарову, обратилась в тяжкое зло, которое теперь висело над Новым Светом, ястребом падало то в одни закрома, то в другие, залетало ветром буйным в классы и мастерские, выхватывало острием всякую всячину, заносило все в книжечки и кондуитики и всем этим полоскало на всех уровнях, как полощут белье в холодной реке, — безжалостно и упорно, чтобы чистоты прибавилось, чтобы от накопленной замусоленности избавиться. А все началось с того отвратительного вечера, когда едва не разорвалось природное сердце Шарова, когда глаз Сысоечкина скакал, точно готовясь к голографическим эффектам.
А эффекты пошли скакать, как тот стеклянный глаз, по комнатам и присутствиям, как только переступили порог начфи-новского кабинета два добреньких ревизора, все еще сожалея, что сорвалась у них рыбалочка, последняя рыбалочка, может быть, в сезоне, но служба превыше всего, так всегда говаривал начфин Росомаха, перед лицом которого и предстали два сотоварища.
Росомаха, с головой, похожей на белую тыкву, на которой ученической ручкой небрежно сделаны две прорези — глазки и тонкая линия внизу — губы, разумеется, — так вот, Росомаха повел головой по тетрадочке, ткнул свои щели-прорези в цифирь и тут же стал звонить Омелькину, и в уголовные конторы всякие, и в ревизионные управления, повторяя одно и то же:
— Крупное дело. Очень крупное. Мы открыли.
И пошло. И покатилась бочка из кабинета Росомахи, не так, как бы тыква покатилась, мягко и глухо, а громко покатилась, по ступенькам, усиливая гул, создавая грохот, по пути цепляя другие разные бочки, и когда этого переката стало больше чем достаточно, Росомаха вздохнул:
Читать дальше