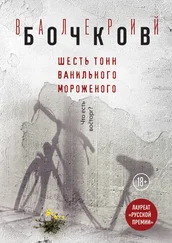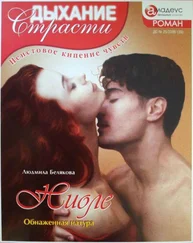Сон всегда обрывается на этом месте. Некто настырный, не знаю, какой дотошный бес (должно быть, немец) у них там заведует департаментом ночных развлечений, с завидным упорством показывает мне этот сон раз в месяц. Раз в месяц – как минимум, иногда я вижу его два, а то и три раза.
«Запоминай!» – словно говорит настырный, предлагая моему вниманию новую подробность, ранее не замеченную мной: перламутровую прядь в твоих волосах, стаю голубей, кружащих симметричным узором над лиловым парком, или запах шиповника, контрабандой доставленный на Манхэттен с моей болшевской дачи.
Вещественность знаков, материальность символов делают почти невозможным отличить фантазию от минувшей реальности. Я давно уже не пытаюсь заниматься подобным вздором: чем, скажи мне, отличается мастерски придуманная фикция от слепка неверной памяти? Ведь с неумолимой точки зрения текущего момента и то, и другое не существует в абсолютно равной степени. С позиции «сегодня» они девальвированы в одинаковое ничто.
Для художника, впрочем, как и для любого творца, понятие реальности есть не более чем химера. Рабское копирование реальности – еще ее называют «правдой жизни» – является свидетельством бездарности и прямым следствием отсутствия той самой искры божьей, что сближает нас, избранных среди смертных, с всемогущим Мастером. По мне, пусть «правдой жизни» занимаются проходимцы и самозванцы, жаждущие примазаться к божественному Искусству, все эти хроникеры и публицисты – унылые стенографисты нелепого нагромождения случайных событий, эти летописцы минувших времен, фотографы давно умершего света. Правда жизни – какая глупость!
Я давно живу в ажурной паутине, прочно сотканной из стеклянных снов, свинцового бреда и солнечных фантазий: да, там есть вкрапления и «правды жизни», и так называемых реальных событий, но они, эти тусклые нити, с таким мастерством вплетены в общий узор, что даже я не в состоянии порой опознать их.
Но ты просишь меня, ты хочешь узнать, что же случилось на самом деле. Так и быть, я постараюсь. Я сделаю это для тебя. Не хочу искать виноватых, но для полноты картины мне придется нырнуть на самое дно, опуститься к самым истокам жизни, дабы из-под завала дней, лиц, городов и событий извлечь на свет божий первопричину всех бед моих. Наша жизнь полна тайных символов, внимательный глаз и острый ум непременно составит из них логическую картину: если тебе кажется, что беда на тебя рухнула как гром среди ясного неба, я готов поспорить, что ты просто прозевал предупредительные знаки. Оглянись – и ты непременно отыщешь их во вчерашней пестроте мокрых кленовых листьев, в шелесте осоки и шепоте песка. Ничто не происходит случайно, каждое событие имеет свою причину и свое следствие. Будь внимателен!
Как будто предчувствуя свой жребий, мне с детства запало в душу наше русское правило: «Если любишь – люби всем сердцем, в остальном – доверься судьбе». Родись я швейцарцем или, не дай бог, англичанином, уверен, моя история сложилась бы иначе: педантичная рациональность, впаянная в генетический код, уберегла бы меня от акта самоуничтожения. Любовь для европейца – категория умозрительная, вроде поэзии или филателии, не входящая в рамки практического употребления, любовь же «русского разлива» – это вообще психическая болезнь с острыми антисоциальными последствиями. Наша страстная вера в судьбу – дикарский фатализм и языческое идолопоклонство, недостойное просвещенного и прилежного, застегнутого на все пуговицы протестантского ума.
Мучимый весенней бессонницей, я лежу с закрытыми глазами, передо мной неспешными картинами течет моя жизнь – такое, я слышал, бывает на смертном одре. Пытаюсь разложить все по полочкам, обнажить все связи, нащупать первопричины. Так рождается смысл. Пустота наполняется чувством, превращаясь в притчу, становясь символом. Из символов складывается судьба. В нашем, русском, случае имя ей – рок.
Итак, слушай. Моя беда началась с раннего детства. Само мое появление на свет явилось, скорее всего, недосмотром или досадным недоразумением. Едва родившись, я начал свои скитания: мои родители, находившиеся тогда в Бангладеш, отправили меня в Москву к бабке и деду. Старики повозились со мной, но постарались отфутболить обратно при первой возможности. Отца перевели в Афганистан, какое-то время я провел в Кабуле; мы жили в советской колонии за беленым каменным забором, по верху которого хищно сияли топазами битые бутылки. Сверху висело невероятно синее небо – чистый ультрамарин. К полудню поднимался юго-западный ветер – кара-буран, черная буря. Местные называли его «боди шурави», советский ветер. Он дул с нашей территории, от верховьев Амударьи. К полудню небо становилось серым, как асфальт, песок проникал внутрь закрытого спичечного коробка, красил тонкой мышиной пудрой подоконник и стол. От пыли у меня начался кашель, доктор сказал, что через пару месяцев мы будем иметь дело с полноценной астмой.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
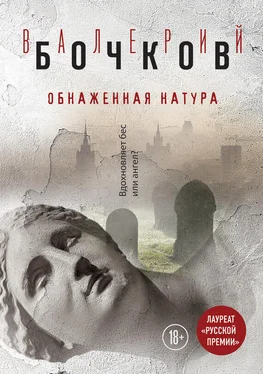
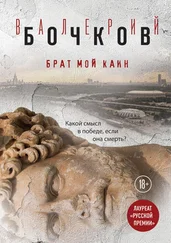







![Валерий Бочков - Ферзевый гамбит [сетевая публикация]](/books/394455/valerij-bochkov-ferzevyj-gambit-setevaya-publikaciya-thumb.webp)