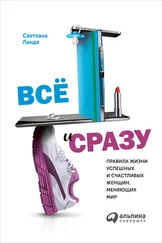Мы даже не сразу пошли к её дому, а прошлись до театра Франко. Всё было как будто хорошо – но всё-таки оставалось на том же месте.
Незадолго до этого я получил киевскую прописку. С паспортом в кармане в тот туманный вечер я не шёл, а летел домой, ведь я снова стал киевлянином, ведь это так важно, ведь теперь она сможет остаться в Киеве! Мне не терпелось разделить с ней радость по поводу своей "легализации", но этого не произошло, это просто как-то органически не получилось. Я уговаривал её постараться остаться на практику и диплом в Киеве, вкладывая достаточно серьёзности в эти шутливые уговоры. Но и здесь всё оставалось неясным. Я же довольствовался малым и не торопил события, считая, что времени ещё достаточно. Иногда же, устав от напряжения, предательски думал, что незачем мучить себя, что время само покажет – да или нет. Из-за всего этого бывало, что мы не виделись иногда неделями. Но, не имея возможности позвонить к ней домой, я старался всегда приходить в понедельник или пятницу. Она это, очевидно, знала и в эти дни бывала дома. Но вслух об этом не говорилось.
Так продолжалось до 6 декабря.
6-го мы должны были идти в филармонию, на симфонический концерт. Из-за чего-то я сильно задержался и пришёл за Витой поздно, мы опоздали и первое отделение – симфонию Шостаковича – слушали с галлереи, сидя у стенки и сложив пальто на свободные стулья. Мне было неловко из-за моей вины, но Вита не сказала ничего. Она больше молчала, правда я вообще редко видел её оживлённой на людях. Симфония Шостаковича ей очень понравилась. Она её слышала впервые. Это меня удивляло – я, имея хоть какое-то музыкальное образование и некоторый слух, не смог бы, безусловно, усвоить такую симфонию с первого раза, даже если бы слушал её с начала и не был расстроен опозданием.
В антракте мы сдали пальто, и я вынул из кармана пиджака (я был в своём самом парадном сером костюме) полоску листовой бронзы, ажурную от пробитых отверстий хитрой формы – высечку от первого штампа, сделанного по моим чертежам. Да, к сожалению, больше года прошло после окончания института, пока я увидел первый результат своего труда, дело рук моих. Это первое было так незначительно, но для меня это было важно, этот обтёртый моими руками до зеркального блеска штамповочный отход. Она отнеслась к нему довольно равнодушно и, наверное, была права; филармония – мало подходящее место для восторгов по поводу штампа.
Второе отделение мы слушали из партера, и всё было чудесно. Мы вышли из филармонии, вполне довольные концертом. Шли обратно не спеша, был тихий зимний вечер. И Вита была оживлённой, более раскованной и более близкой. Такие минуты в наших отношениях были похожи на молчаливое примирение после какой-то ссоры. Может быть, действительно нужно примирение после стольких прежних осложнений – в мои институтские годы, во время Харькова, МТС… Ну, да какая разница, хорошо, что всё это уже в прошлом. А сейчас, после концерта, мы медленно подходим по заснеженной улице к её дому. Дом Гинзбурга, огромный и торжественный в бесчисленных завитушках лепных украшений. Сейчас мы попрощаемся и она поднимется лифтом к себе на четвёртый этаж. Мы стоим у подъезда во внутреннем дворе, кругом никого. Вита стоит прямо передо мной, выражение её лица какое-то особенное, в нём есть особая приподнятость, прямо что-то вдохновенное. Она говорит:
– Я вам должна сейчас что-то сказать.
– Пожалуйста. Почему так торжественно?
Я уже внутри сжался в комок, я понимаю, что сейчас будет главное.
– Сегодня мы были с вами вместе в последний раз. Больше этого не должно быть. Вы больше не должны приходить ко мне.
– Это всё?
– Да.
– Ну что ж, хорошо. До свидания.
– До свидания.
Я поворачиваюсь и иду. Прохожу двор, низкий выезд и выхожу на улицу. Делаю ещё два шага – и тут соображаю, что я делаю. Бегу обратно. Вита ещё стоит у дверей лифта. Как я тогда начал? Не помню. Мы снова на улице. Я помню только, что спросил: "Сигалов?" – и она сказала: "Да". Всё было понятно и всё было кончено. "Он сейчас в Ленинграде?" – "Нет, в Николаеве, ему поменяли назначение. Завтра он приезжает, и мы должны расписаться."
Теперь легко и просто говорится обо всём. У меня ощущение одновремённо и оглушённости, и просветления. И какая она теперь бесконечно далёкая, и какя близкая. И как теперь можно высказать ей всё, что накопилось за это время, эти потерявшие теперь значение упрёки и обиды, досаду из-за того, что всё было так неестественно, трудно и так напрасно.
Читать дальше