Все это молнией пронеслось в нашем воображении. Мы и без всяких угроз были сражены. Стоя перед Трубниковым, как перед Страшным судом, понимали всю глубину и пагубность нашего падения, и не было прощения нам!
Наш же обвинитель сделал далее то, что и должен был сделать. Получить от такой встречи самое полное свое удовольствие. И тогда он снова обратился к фотографиям, комментируя увиденное вслух, присюсюкивая, причмокивая и со вкусом обсуждая всяческие подробности, одним этим как бы низводя тех, кем мы любовались, до нашего морального уровня. А уровень наш был низок, очень низок, да просто никакой.
– Ну, ус и носки! – восклицал он азартно, специально присюсюкивая. – Палки какие-то, а не носки! А ус эти грудечки… Вымечки козьи, не иначе, где такие берут! А зывот? Ну сто это за зывот… Это просто доска, а не зывот…
Произнося так, он поблескивающим глазом косил в нашу сторону, желая воочию убедиться, что нам при этом больно, что наши души хоть и оцепенели от страха перед будущим наказанием, но еще способны реагировать на его тычки и уколы. Так, наверное, вздрагивает мертвая лягушка на уроке физики, когда во время опытов ее дергают за нерв. А насчет опытов, в том числе психологических, наш Трубников, это мы знали и до того, был великий мастак!
Наигравшись вдоволь таким образом, он в какой-то миг переменился, посерьезнел.
Игра закончилась, начиналась разборка. Коротко, по-деловому пояснил, что явился он, конечно, не случайно. Заслышав шум в запечатанной лаборатории, охранник, слава богу, не поднял тревоги, а позвал его, Трубникова, который засиделся у себя в лаборатории.
– К счастью, к счастью, засиделся! – подчеркнул он.
«Какое уж тут счастье!» – мелькнуло тревожно. Наверное, и Тахтагулов думал примерно так же.
Но Трубников словно угадал наши сомнения и сам на них ответил.
– А счастье ваше, – произнес негромко, – вот какое… Сейчас я пойду к охраннику и скажу, что это я вас оставил тут для работы, но забыл с вечера подать заявку, сейчас позвоню и подам… И улажу. А завтра… Ну, у нас есть время подумать и решить, что мы будем делать завтра, – добавил он.
При этих словах вытянул одну из карточек, кажется даже, взял любимую нами Зухру.
Не обращая внимания на то, что карточка еще мокрая, он сложил ее вчетверо и сунул в нагрудный карман, словно там было для нее место. Шагнул к дверям, но оглянулся и четким шепотом приказал:
– Убирайтесь! Да уничтожьте этих… – прищелкнул пальцами. – Всех до единой!
– Конечно же… Сейчас же… До единой…
Мы произнесли это вразнобой, но на одной мерзко-гнусавой от фальшивости наших голосов ноте и при этом не сводили глаз с его нагрудного карманчика, в нем он уносил улику в лице нашей незабвенной Зухры. Что же толку от уничтожения всего остального!
– Тогда до завтра! – почти приветливо, но опять негромко проговорил он и, взмахнув бежевым плащом, прикрыл за собой дверь. И даже запер на ключ.
Это последнее не было вовсе излишним. В нее уже заглядывал сторож. Мы опрометью бросились собирать мокрые отпечатки, где обольстительные Мэри-Сюзи-Анжелы и девятнадцать оставшихся Зухр уже ничем не могли нас утешить, они словно угасли и обесцветились после всего, что произошло. Их и нас унизили, как унижает хулиганье тебя и твою возлюбленную, застав во время свидания.
За пределами проходной, в кустах, мы торопливо поделили наше богатство, нисколько не огорчаясь, что кто-то получит чуть больше или меньше. Мы ждали следующего дня, пытаясь с утра в проходной по лицам случайных встречных угадать свою судьбу, угадать, что нас ожидает.
Мы думали, расправа будет на следующий же день. Но никто не приходил от Комарова и день, и второй. И почти вся неделя прошла в противной неизвестности. Лишь в конце ее (или так много нужно времени, чтобы нас изничтожить?) вдруг выяснилось, что Тахтагулова в скоростном порядке переводят в другой комплекс и он немедля должен туда явиться. Он сам сообщил об этом на ходу, потупясь, будто чувствуя передо мной вину. Но, прощаясь за руку, вдруг по-разбойному сверкнул темным глазом и произнес: «А баб не отдали! Они наши!» С тем и укатил, оставив меня дожидаться решения моей судьбы. И тут меня позвали наконец «наверх», к Комарову, я уже знал, что это означает. Но я ошибался, там не было на этот раз ни самого Комарова, ни острозубой Люси, а сидела лишь табельщица Зина с белыми глазами, застывшими навсегда от испуга, как у выловленной из воды рыбы. Вообще-то у нее была крошечная комнатушка рядом с кадрами, и я не понимал, зачем для встречи с ней надо было меня вызывать в кабинет начальства.
Читать дальше
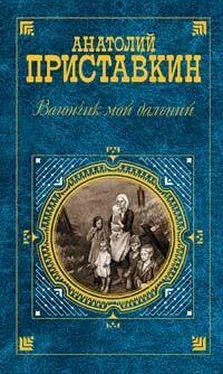


![Анатолий Приставкин - Первый день – последний день творенья [сборник]](/books/34293/anatolij-pristavkin-pervyj-den-poslednij-den-t-thumb.webp)

