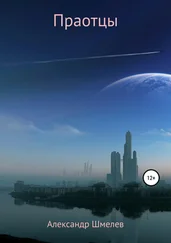– Так, дремлю… – сказала она устало. [78]
– Думаешь о Москве… Покойной ночи.
– Покойной ночи, – сказала она, зевая, равнодушно.
Конечно, думает, вся – в чаду. Его обидело ее равнодушное «покойной ночи», совсем чужое. И не ответила, что думает о Москве, не стала спорить. Теперь их средства покажутся ей несчастными, а его служба – жалкой, это и раньше чувствовалось, а после хвастливой болтовни московской!… Бураев с раздражением вспоминал, как спрашивали Ростковского: правда ли, что получит за какой-то «алтаевский процесс» чуть ли не двести тысяч. – «Ну, не совсем так… – поправил кокетливо Ростковский, – «с небольшой добавкой в три процента с выигрыша». – «А велик выигрышь?» – «Да наверняка-то набежит, пожалуй, миллиончикам так… к семи». Бураев с отвращением вспоминал, как он почувствовал себя маленьким, ничтожным в глазах Люси, – так она удивленно слушала. А это швырянье деньгами без счета, шампанское, как вода! Разврат. И только подумал это – «разврат», съежился от стыда, ярко себе представив ужасную сцену с Машенькой. Это бродило в нем целый день, и он утаивал от себя, как обольстительное и гадкое. Но теперь, при «подсчете», в трезвом грохоте поезда, перед милой его Люси, которую он безответно любит, этопредстало пред ним, таким безобразно голым, таким преступным, что он сжал себя за голову и застонал от боли.
– Стеф, что с тобой… проснись!… тревожно окликнула Люси.
– А… ничего… – с глубоким вздохом ответил он. Она все еще не спала, все думала. [79] Нет, это навождение! Указал ей на монастырь, желал ее!… Путаться с Машенькой, – она чудесна, как женщина… – и любить, страстно любить Люси?! И женственно-мягкий облик маленькой и веселой «египтянки» с русскими, серыми глазами, льнувшей к нему так нежно, дышавшей такою лаской, вызвал в нем грусть и радость. «Держи и держи себя, не распускай… что бы ни случилось – воли не выпускай!» – мысленно, как монах молитву, прочитал про себя Бураев заветное свое правило. И сейчас же решил – написать Машеньке, объяснить ей свое душевное, что любовь его к ней – другая, что она для него… – подумал восторженно Бураев, – словно и мать, и женщина, – сердцем он это чувствует, – и случись с ним большое горе, к ней он придет за лаской… что было бы бесчестно перед Люси, которую она так любит… что в чаду это все случилось, и надо с собой бороться.
«Если бы обманула меня Люси?…» – поглядел на нее Бураев.
Одеяло было откинуто, и голубовато-мраморная нога Люси, обнаженная до бедра, выкинулась за край постели, а роскошные руки-изваянья были закинуты в истоме. Он представил на месте себя – другого, представил Люси такой… – и задохнулся.
– Люси… – нежно позвал он шопотом. Люси не шевельнулась, но Бураеву показалось, как дрогнула обнаженная нога. Он тихо опустился на колени, прильнул губами.
– Люси…
Она дышала ровно, спала. Он прикрыл ее одеялом и долго сидел и думал, сторожил ее сон – не сон. [80]
После чада Москвы потянулись дни трезвые – работа в роте и подготовка к экзаменам. Он написал Машеньке письмо, полное неясных излияний, – рождались они неожиданно, как из влюбленности. Он называл ее самыми неясными словами, наделял достоинствами чистой из чистых женщин, умолял не строго судить его за «ту дерзость», сказанную в чаду… объяснял свой поступок «страстью, которая вспыхнула, как пожар, от ее странных чар, от ее женской ласки, особенной ласки, в которой он вспомнил что-то… в которой чувствовалась ему и мать и женщина». «Прошу вас, забудьте, не приезжайте… поймите меня, у меня Люси…» «Да, я знаю, – заканчивал он письмо, – теперьзнаю, что люблю вас по особенному нежно, что вы мне дороги, что… скучаю по вас и – странно! – только о вас и думаю…»
Она прислала ему на полк коротенькое письмо – ответ:
«Милый, зачем – «вы»? Все равно, я – твоя, ты – мой. Ты будешьмой. Я не святая, и не вовсе дурная, а так… Называли меня в гимназии – «весёлка», веселая! И не любила по настоящему. А что такое – по настоящему? ты знаешь? Кажется мне, что ты вот и есть «по настоящему». Целую твои глаза. Я плачу…»
Его не удивляли резкие перемены настроений, которые замечал в Люси. Это и раньше было. Нет у ней никакого дела, и это ее нервит, и винить за это ее нельзя. После успеха с чтением у ней закружилась голова, все в нее влюблены, конечно… а прилипшая к ней артистка пишет такие письма, любовникам впору разве… Иди и иди на сцену, это священный долг!… Все [81] уже подготовлено, студия ее ждет, дело только за ней – приехать что-нибудь прочитать директору…
Читать дальше