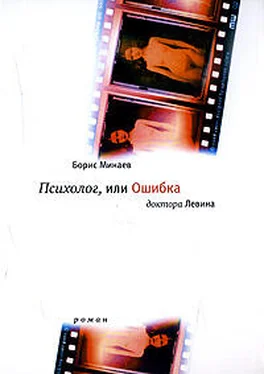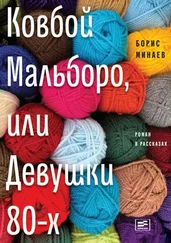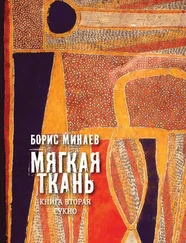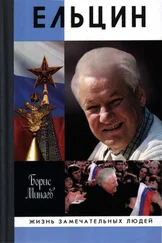Ведь в таких вещах, теоретически, мог принять участие любой мужчина – ну вот, тот же реутовский Шурик. Да и он сам. Или не мог?
Лева чувствовал вместе с ужасом и какое-то возбуждение, когда читал эти вещи или смотрел их в кино – но одновременно с возбуждением ему передавался, физически, на уровне ощущений, страх, ужас женщин, он смотрел в их расширенные глаза, и его тошнило от ненависти, от боли, от бессилия что-то изменить.
Изменить в самом порядке вещей.
… И искренне считал, что всех насильников надо расстреливать в первую очередь. Как раньше.
– Расстреливали раньше за изнасилование, – сказал ему отец спокойно, когда они вышли из кинотеатра, и Леве пришлось рассказать, что с ним было, в каком месте он почувствовал себя плохо. – Знаешь когда? После войны. Очень много было таких преступлений… И сразу, вот как расстрел ввели, их стало меньше.
* * *
Наступил сентябрь. Их прогулки становились реже. Родители не отпускали Нину, да она вроде и не сильно стремилась. Лева тоже выписался, удачно пройдя второй сеанс, речь его сильно улучшилась, а настроение сильно ухудшилось.
Главная тема ускользала из его жизни, стремительно и бесповоротно. Мама смотрела на него с жалостью, один раз даже купила на работе дорогие билеты на концерт испанского певца Рафаэля, но Нина не пошла, сказала, что Рафаэля не любит, пойдет лучше в кино.
Но ходить с ним в кино она почему-то отказывалась, может быть, после одного случая, когда он проявил себя опять не с лучшей стороны. Как-то раз она сидела дома, в своих Химках, и никуда не хотела идти, родителей не было, только ее брат, и Лева сказал, что сейчас приедет.
– Ну ладно… – удивилась она. Видно, сидеть дома одной было совсем скучно.
Он привез цветы, она лениво ставила их в вазу, была какой-то совсем другой, в толстой шерстяной кофте, в шерстяных домашних колготках, часто краснела, когда он на нее смотрел, застенчиво предложила чаю, квартира была смежная, трехкомнатная, в большой проходной комнате за круглым столом сидел десятилетний брат и читал книжку, на Леву он посмотрел сурово и тоже покраснел, тогда они пошли, чтобы не мешать, к ней в комнату, и она, не зная, куда его деть, чинно села за письменный стол, а ему предложила сесть на кровать, больше было некуда, комната была крохотная, кресло просто не помещалось, постепенно ей стало скучно, и она перешла к нему, они начали целоваться, очень тихо, потом стало жарко, толстую кофту она сняла, осталась в тонкой, и он вдруг начал расстегивать ей пуговицы, одну за другой…
Она строго отстранилась, и сказала:
– Я сейчас брата позову. Учти.
Он учел и уткнулся головой ей в живот, не двигаясь. Она гладила его по голове и шептала, что пора уходить, потому что скоро придет с работы отец.
Он быстро ушел, и она удивленно смотрела ему вслед.
Все кончалось.
Однажды они шли из больницы – она с Таней, еще с какими-то девчонками, и он сказал: ты куда?
Она остановилась и, когда девчонки отошли, сказала ему грубовато:
– Ты больше со мной не ходи.
– Почему?
– А зачем?
Он не нашел что ответить, и она, отвернувшись, заспешила от него прочь. Безо лишних слов и долгих прощаний.
Было уже холодно, конец сентября, или начало октября, или уже ноябрь, больше он в больницу не ездил, до следующего лета, до следующего сеанса.
Но больше никогда ему и не хотелось в больницу так, как тогда, – в то место, где он узнал про белые носки, про мягкую грудь, про странные шальные глаза столько, сколько мог узнать, где ему было хорошо почти так же, как в его дворе когда-то, где каждое дерево улыбалось ему, где в каждом углу они сидели, были, смеялись, но дело было не только в этом…
Он шел в метро один и на переходе с Белорусской радиальной на Белорусскую кольцевую вдруг остановился и сказал: ну и ладно. Ну и пусть. Ну и хорошо.
Хорошо было не то, что она с ним рассталась, это было плохо, нет – хорошо было знать, что теперь он никогда ее не забудет и что она дала ему что-то, с чем он будет жить теперь всегда.
Впрочем, сформулировал он все это намного позже. Да даже не сформулировал, просто он ее помнил, Нину Коваленко, девочку из шестой больницы, от которой не осталось ни одной фотографии, ни одной записки, ни одного стишка, ни номера телефона, ничего.
* * *
Лева встретился с Калинкиным и Петькой на Казанском вокзале. Прямо у поезда.
Их провожала та самая еврейская тетка Калинкина, запомнить имя-отчество которой Лева так и не смог. Что-то типа Эсфирь Хаековны. Или Мадлен Боруховны.
Читать дальше