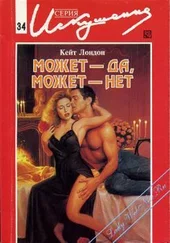Хотя у нас забрали из карманов все, когда отвели в это чистилище, мы все равно курили. Из карманов вытрясли последние крупицы табака, и набралась маленькая горка. Нашли кусочек газеты. А огонь? Ребята оторвали две дощечки от заколоченного окна, потом мы целый день терли эти чертовы деревяшки друг о друга, и они уже начали дымиться, но не загорались. Однако в конце концов, исчерпав все свои силы, мы все-таки курили, да еще и трут сделали на будущее. Одного из ребят надзиратель позвал наружу — подмести коридор перед пекарней. Вернувшись, тот принес большой прекрасный бычок. К тому же он рассказал, что заключенные-строители перестраивают камеру рядом с душевой и сделали дырку в стене, через которую рассматривают моющихся женщин.
Жизнь проникает повсюду; я думаю, что есть что-то живое и на дне извергающихся вулканов. Совсем не лишена смысла греческая теория о существах, живущих в огне, пиросах.
Осмотрев меня, тюремный врач отправил меня в амбулаторию. Здесь можно было весь день лежать и еда была чуть гуще. У всего плохого есть своя хорошая сторона, как говорят.
Амбулатория — это самое чистое место в тюрьме, только страшно воняет из-за смешения запаха средств дезинфекции и ведер. Надзиратели тут меньше придираются. Окна больше. Допросов меньше. Возможность выезда на осмотр в больницу. Больше места для хождений туда-сюда. Каждый заключенный получает тюремный больничный халат. Купание в довольно опрятной душевой в определенный день недели, моются по три и три по очереди. Иногда можно даже полечить зубы, если случайно среди арестованных попадется какой-нибудь дантист и если осилишь достаточное количество шоколада и сигарет на подкуп арестанта, в белом халате работающего в канцелярии амбулатории. А иначе — все, что от пупка и выше, — аспирин, от пупка и ниже — касторка, — и вера в судьбу.
В то время, что я валялся в амбулатории, в тюремном бараке в больнице, и опять в амбулатории (в палате для умирающих), и в арестантском отделении военного госпиталя, и в амбулатории тюрьмы на севере, я получил много ценного опыта. Когда я вспоминаю каждое из упомянутых мест, во мне пробуждается множество образов. Поскольку между делом — в качестве наказания — я оказывался и в камере, а потом опять возвращался на «лечение», то менял камеры и коллег, вынужденный подчиниться больше внешним событиям, чем обычному ходу вещей. Я не должен в результате забыть описать «контрабанду», упомянутую мной, прежде чем был вынужден затеять разговор о туберкулезе.
Девять месяцев я, как говорится, висел между жизнью и смертью, из них несколько месяцев я провел в палате для умирающих в амбулатории, куда ходили смотреть на меня шефы «по приведению к исполнению наказания», дескать, когда же я протяну ноги. Однако это совсем не было временем умирания. Если бы полицаи знали, сколько жизни горело во мне! Как твердо я намеревался выжить и еще поучаствовать в похоронной процессии в их честь — я не сдохну, чтобы не доставлять им удовольствия! Конечно, в больнице сразу же констатировали безысходное состояние. Гражданские врачи качали головами. Некоторое время я лежал в тюремном бараке больницы, потом, разумеется, меня перевезли в ту палату амбулатории, откуда меня должны были вынести вперед ногами — как уже многих до меня. Проблема «Левитан» для многих была бы наконец-то решена. Так как в потенциальных мертвецов нет смысла впихивать жаркое, я получал какие-то коричневые похлебки с комочками костей и жил, так называемый мертвецкий гуляш. Когда в результате меня пришел навестить референт внутреннего отдела администрации «по приведению к исполнению наказания» — какой-то высохший, злобный паршивец, — то разочарованно воскликнул:
— Да, Левитан, а вы совсем неплохо выглядите!
Вероятно, он думал, что найдет меня на последнем издыхании и в лужи крови, поскольку моей желто-бледной оболочкой был недоволен. А если бы он сдернул с меня одеяло, то оторопел бы — сколько книг, бумаг и тетрадей увидел бы. Там был Коран на арабском — для того, чтобы учиться читать и писать по-арабски. Я получил его со склада на время — его забрали у одного мусульманина. Там был Хёйзинга на итальянском. Тоже со склада. Там была одна американская дама-психолог, которую я получил очень запутанным путем на несколько дней от переводчиков, переведших ее для полиции. Черт, подумал я, полицаи тоже развиваются; смотри, Левитан, а то еще отстанешь! Подобными путями позже я получил доступ к ряду интереснейших работ: к Маккинзи, к некоторым американским психометрическим и психотехническим работам (я сказал сам себе: теперь, по крайней мере, я знаю, почему психология не может развиваться дальше; в Европе мы создаем одни классификационные системы без базы, американцы выстраивают статистику и проводят на ее основе тесты, вместо того чтобы хоть как-то ее системно классифицировать!), я получил «Историю западной философии» Рассела и книгу о нюрнбергском процессе против военных преступников с речью американского обвинителя Тейлора целиком. Я очень обрадовался и Швейку, который тогда в тюрьме был под строжайшим запретом. — Чтоб не очень отклоняться в сторону. Референт нашел бы под одеялом целый ряд чудно разложенных листочков и тетрадей. Например, там был набросок грамматики цыганского языка, которому я учился в тюрьме на севере у арестованных цыган, уважавших меня потому, что так им велел их старейшина, очень мудрый пожилой человек с абсолютно индийскими чертами лица, которого я тоже уважал; между нами были отношения, как между князьями. Язык интересовал меня, поскольку сквозь тысячелетия сохранил свою санскритскую основу. Mro vodji pataninla te na oiha mri — «мое сердце разорвется, если ты не будешь моей»; meg aja radj tu site sal mri — «уже этой ночью ты будешь моей»; tri žuvli hi lumni — «твоя жена — шлюха» (а это — настоящее цыганское приветствие).
Читать дальше
![Витомил Зупан Левитан [Роман, а может, и нет] обложка книги](/books/32925/vitomil-zupan-levitan-roman-a-mozhet-i-net-cover.webp)