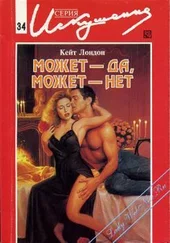Однако я могу рассказать, что, кроме последнего года, на меня в течение всего времени распространялся полный запрет на карандаши и бумагу. Но в арестантской школе я успешно продвигался вперед и мог преодолевать многие напасти. По большей части у меня было по два канала связи с внешним миром, так что я одним мог контролировать другой. Для книг я иногда открывал совершенно новый канал. Поскольку писателей, вероятно, будут арестовывать (по крайней мере, в отдельные периоды) вплоть до таких изменений в человеческой природе, которых пока не возможно предположить, я весьма неохотно раскрываю, как я переправил из ареста одновременно две книги, толщиной где-то от 12 до 15 миллиметров, высотой около 12 сантиметров и шириной 8–10 см, обе в отличном переплете из материи от рваных арестантских рубашек, одной темно-красной, винного цвета, другой — темно-синей. В обеих было стихов больше, чем у всего Гомера, так мелко были написаны те мудрые мысли, которые позже в результате какого-то предательства конфисковали, но потом мне их вернули, когда выпустили, и теперь они отдыхают среди других на полке над моей постелью. Когда раз в год я беру их в руки и пытаюсь читать, то вскоре закрываю и откладываю в сторону. Будто бы их писал совершенно чужой мне человек! При всей лени (по сравнению с тем временем) и преданности достижениям цивилизации (по сравнению с богатством того периода) мною овладевает легкая тоска по тому человеку, который когда-то в застенках был уверен, что держит на ладони серебряного дельфина из вселенной, и этот дельфин, запряженный в колесницу его снов, доставит его ко всем целям. Не доставит! Еще и этот рассказ будет квалифицирован как порнография. Мир не созрел для правды. Наслаждаться все не прочь, а учиться — лишь закомплексованные таланты.
Прежде всего я должен рассказать, что обе книги я пронес через тщательный личный досмотр, когда на мне были только арестантские штаны, куртка, рубашка, трусы, башмаки и «онучи» в них. Что при этом выносе у меня все время на руках были стальные наручники. Что с меня глаз не сводили ни командир эскорта с револьвером за поясом, ни личный охранник с английским ручным пулеметом (Бреном), готовым к стрельбе. Что рядом со мной находился очень прилежный стукач, арестантский осведомитель. Что мне внушили под угрозой карцера, дескать, я не должен произносить ни словечка.
Это происходило достаточно холодным снежным днем, я точно помню дату, потому что срифмовал ее по образцу одной известной английской песенки «Remember, remember the ninth of December!» [35] «Помни, помни девятое декабря»! (англ.).
— девятого декабря. Подготовка к операции длилась два месяца, интенсивно — последние три недели.
Но сначала я подхватил туберкулез. Мне кажется, что я даже знаю, как заполучил его, хотя потом мне объясняли в администрации, что я уже прибыл с ним в тюрьму. Поскольку между этим выносом и чахоткой есть связь, я должен вернуться к Аврааму.
Я находился в одной из тех камер, где часто у кого-нибудь случается «особое свидание» или кому-то за что-то «закручивают гайки» и он должен покидать камеру. В результате трое из нас полетели в подземный карцер рядом с тюремной пекарней, с заколоченным окном. Карцер — это бетонная каморка без минимального оборудования, голая и вонючая, только параша стоит за дверью. В ней темно и ночью и днем, свет зажигается только при использовании параши и во время еды, которая не заслуживает того, чтобы так называться, — скудная и жидкая. Два на четыре метра — нас запихнули туда пятнадцать человек, так что мы, чтобы сесть на пол — все время невозможно стоять, — должны были по очереди меняться.
Жарища, спертый воздух, запредельная усталость, изголодавшиеся люди. Рядом со мной были двое, плевавшиеся кровью. Так нас продержали несколько недель.
Когда меня вели обратно в камеру, — не то чтобы про меня кто-то что-то вынюхал, я никогда не узнал, за что я оказался в подвале, — я еле волочился по ступенькам, у меня кружилась голова и подгибались колени.
Когда позже я плюнул кровью, то вспомнил тех несчастных в карцере. Все свидетельствовало о том, что заражения туберкулезом планируются. Ощутивший на себе прикосновение рук, крутящих в то время «мясорубку», ничему бы не удивился. Может быть, в будущем не будут скрывать, что еще они цинично разрушали браки заключенных лишь для того, чтобы и с этой стороны иметь возможность давить на них.
Стены того карцера были все исписаны. Когда зажигался свет, было что почитать: от надписи почерневшей кровью про то, как кого-то избили, до записки настоящим карандашом — имя и адрес некой заключенной, приглашающей нас отозваться, когда выйдем на волю, — будем трахаться, как еще никогда.
Читать дальше
![Витомил Зупан Левитан [Роман, а может, и нет] обложка книги](/books/32925/vitomil-zupan-levitan-roman-a-mozhet-i-net-cover.webp)