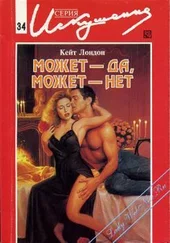При всем этом меня трясло от холода как собаку. В корпусе было два главных надзирателя, костлявый Гугел и маленький задиристый Янчич, которого прозвали «Вошь», потому что он любил кричать на заключенных «давайте! давайте! проклятые вши!» Гугел осмотрел мою камеру после уборки и обратил мое внимание на необходимость порядка и чистоты. Он спросил меня, сколько мне дали. Когда услышал число лет по приговору, печально закачал головой:
— Почему?
— Политика, — ответил я.
— Такой молодой, крепкий человек!
Качая головой, он ушел, но в дверях обернулся:
— Восток или Запад.
— Запад.
С тех пор он питал какую-то тихую, но приятную симпатию по отношению ко мне. После ужина он мне даже иногда говорил «спокойной ночи» — так, чтобы никто не слышал. Это «спокойной ночи» было золотым лучиком. Из-за этого приветствия я чуть было не предался какому-нибудь гуманизму.
А вот «Вошь» с первой же встречи меня возненавидел. Вероятно, не мог вынести то, что я смотрел ему прямо в глаза. Так что он был вынужден отводить взгляд. Я слышал о порядках и правилах в немецких концентрационных лагерях. Там вообще лагернику было запрещено смотреть в глаза охраннику. Они должны были ходить с опущенными глазами.
Я совершил еще одну ошибку, обратившись к нему просто «надзиратель» так же, как и он назвал меня просто «Левитан».
— Кто я для вас? — спросил он.
Я не знал, что они теперь только господа. Снаружи было введено обращение «товарищ», а здесь был «господин надзиратель», «господин начальник», «господин комиссар». Интересно, что и политики бывшего «товарища Сталина» в речах именовали теперь «господин Сталин». В деревне слово «товарищ» означало милиционера, «товарищ» женского рода — учительницу, а «господин» — священника. Следовательно, на одной стороне стояли товарищ председатель, товарищ милиционер и товарищ учительница, а на другой — господин Сталин, господин священник и господин надзиратель. Вскоре — после этой ошибки в обращении (совершенно непроизвольной, ведь товарищами мы абсолютно точно не были, а про господина я не знал) — «Вошь» пришел в мою камеру, походил туда-сюда, осмотрел ее, потом позвал одного из чистильщиков из коридора — и приказал ему снять раму и унести ее. Снаружи шел снег, и это кое-что значило. Холодный воздух подул через открытое окно и дверь. Я спросил — почему он забрал раму?
— Будут ремонтировать, — забормотал тот.
Стекло действительно было треснутым. Но рамы я больше не видел. Сибирь! Меня трясло так, что я не мог согреть рук, даже засунув их под рубашку и прижав к голой коже. К холоду я был малоустойчив. У меня начали отекать суставы на пальцах рук, кожа по бокам потрескалась, и из трещин начала течь сукровица. Но хуже всего стало, когда у меня «заговорили» пальцы на ногах в этих летних туфлях в дырочку. Они были у меня обморожены в армии, замерзли во время фашистской широкомасштабной карательной операции 1943 года, когда десять дней я не вылезал из снега по пояс. После войны я их с трудом привел в чувство в термах. А холоду не было ни конца ни края. При таком питании я 24 часа в сутки трясся, как пес на сучке. Одеяло мне дали такое, что оно просвечивалось. Когда я попытался им закрыть окно, мне резко сказали, что это запрещено. Как мокрая псина, я ходил туда-сюда, спать из-за холода я не мог, и те по крайней мере теплые «чаи» мне стали казаться замечательными. Палатку согревает одна-единственная свеча. Эскимосское иглу наполняется теплом от крохотного огонька. Но тут ничто не могло помочь.
Горник рассказал мне, что в подвале, в бетонном карцере, где есть балка с крюком, подвешивают. И что у Гугела текли слезы по щекам, когда он однажды вернулся из подвала. Что Гугел, однако, не выносит «восточные деликты». Что он — настоящий садист по отношению к информбюроевцам.
На батарее я нашел надпись «все будет, только нас не будет». На крышке параши я сложил крохотный костерок из картона сигаретных пачек, чтобы хоть немного согреться. Поймал меня — к счастью — Гугел.
— Потушите сейчас же, Левитан! Как вы можете делать что-то подобное?
Я сбросил эти золотые язычки пламени в парашу и рассказал ему, как мне холодно. Он смотрел на незастекленное окно и молча кивал головой. Я показал ему руки. Он лишь вскользь окинул их взглядом. Сказал «хм» и ушел. На следующий день он переселил меня в камеру, о которой я уже рассказывал: моей соседкой была «поверенная по проституткам». А еще вдруг он мне выдал посылку с едой, которую мне отправила мама.
Читать дальше
![Витомил Зупан Левитан [Роман, а может, и нет] обложка книги](/books/32925/vitomil-zupan-levitan-roman-a-mozhet-i-net-cover.webp)