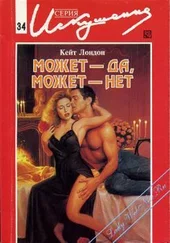И что хуже всего — богов, заваривших для меня всю эту кашу, я совершенно не способен ненавидеть. Проклятый поэт! Только две вещи помогают от печали и депрессии: вожделение и злость. Большинство пленников спасается злостью и мыслью о мести, а я — вожделением. Вожделение же настолько живо и пылко, что не выносит вражды рядом с собой. Но, стоя под виселицей, я все-таки не могу выкрикнуть что-нибудь порнографическое, тем самым напрямую поспособствовав палачам в преодолении этого момента. Такой изворотливый ум, как я, и настоящий мастер острого словца, на этом пункте я оказался просто растерян. Тысячи фраз были мною с презрением отвергнуты, не стану приводить их, одна была глупее другой: от «партизан убивает партизана» (тогда я еще не знал, сколько руководителей высшего звена, генералов, народных героев и партийных секретарей унесет время, дескать, «а хотели бы вы за каждым югославом видеть русского с револьвером?») до «вы узнаете, что клоп воняет только после смерти» (как сказал Лютер, когда ему предложили расправиться с Эразмом Роттердамским). В результате я внушил себе, что буду крайне спокоен и исполнен достоинства, а нужное слово придет мне в голову в нужное время. Потом я вспомнил одно замечание из «Sittengeschichte des Weltkrieges» [12] «История нравов времен мировой войны» (нем.) — труд М. Хиршфельда в двух томах, опубликованный в Лейпциге в 1930 г. (первый том, вышедший в 1929 г., назывался «История нравов времен Первой мировой войны»).
: один врач исследовал целый ряд — длинный ряд, не знаю сколько — повешенных чешских легионеров и у большинства из них обнаружил в штанах извергнутое семя. Также я вспомнил истории из «Sexuallexikon»- а: ученик пекаря в пекарне устроил такой подъемник, чтобы самому себя подвешивать, а потом веревка отпускалась, и он падал на пол. Однажды что-то заело — и его нашли повешенным.
Все это было мне утешением. Эротоман обманывает даже саму смерть! Тогда я уже знал кое-что об условных рефлексах. В результате я начал себя воспитывать. Вечером, когда я брал его в руки, я сжимал себе горло. Тот славный русский экспериментатор пятьдесят раз капал каплю лимонного сока псу на язык и одновременно звонил в звонок, конечно, у пса от лимона начинала течь слюна. На пятьдесят первый раз он без лимона позвонил в звонок — и у пса точно так же потекла слюна. Я упражнялся в сексуальных отношениях со смертью. Это было ново и возбуждающе.
Можно общаться с людьми, животными (позже я узнал: коза лучше всех — передние ноги в сапог, она даже мила, а японцы, говорят, больше ценят гусей — гусыне рубят голову, насадив ее, и потом в смертных судорогах ее внутренности совершают некие сообразные движения; чувствительный по отношению к животным, я бы ни за что на свете не проделал ничего подобного, и слабоумные женщины, которые в чем-то близки животным, никогда меня не веселили), можно общаться, как я уже сказал, с ангелами, чертями, богами, облаками и бельем на веревке — но попробуйте со смертью! Представьте ее себе абстрактно как фазу развития — и изнасилуйте ее! На глазах у представителей власти. Это был материал для того психиатра, который и поныне делает вид, что все знает о человеческой психике.
Мой лейтенант об этом моем новом прегрешении и не догадывался. Когда я говорю «мой лейтенант», я ничуть не иронизирую. Между следователем и допрашиваемым нередко появляется некая связь, пусть это даже антипатия, вражда, страх, а иногда даже ощутимая симпатия. Хотя он был гораздо младше меня, он вел себя по отношению ко мне как-то покровительственно, иногда чуть ли не по-отечески, он никогда не был суров, ведь он был лишь орудием в руках вышестоящих, и никогда не использовал своего положения. Иногда неожиданно во время писания тех многих страниц без содержания он усмехался и замечал: «А вы молодец, Левитан!» А я только таращил глаза.
Не знаю, зачем подменять факты: пусть и в полицейском останется что-то человеческое. Меня страшно раздражают воспоминания бывших каторжников, для собственной славы описывающих своих следователей, надзирателей и тюремную администрацию как стаю зверей-садистов. В этих записках вы еще удивитесь, сколько доброго я смогу рассказать о каком-нибудь жандарме, охранявшем меня. Конечно, вместе с этим я не забуду всего того, что мне рассказали другие заключенные о пережитых ими мучениях, но здесь следует быть осторожным — как врачу, который больше доверяет результатам анализов, чем исповеди самого пациента. Я буду констатировать только то, что смог проверить, а все остальное поставлю под прожектор сомнения. Дело в том, что невозможно себе даже представить, как лгут люди с воображением, разные типы, больные геройством, или трусы, пережившие семь смертей, истерики и особенно провокаторы, исповедью о собственных страданиях пытающиеся заслужить доверие своих жертв. В самом конце следствия лейтенант воскликнул: «Такого случая у нас еще не было — чтобы кто-то представлял себя настолько хуже, чем есть». В этом тоже было разочарование.
Читать дальше
![Витомил Зупан Левитан [Роман, а может, и нет] обложка книги](/books/32925/vitomil-zupan-levitan-roman-a-mozhet-i-net-cover.webp)