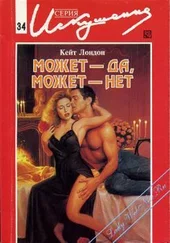Некоторые из женщин признавались, что получали его и в рот, и даже в попу. Оргии! Ненормальность и извращенность во время всеобщей чистоты и обновления. Мой следователь к концу разбора моих сексуальных прегрешений с отвращением воскликнул: мне кажется, что у меня самого грязные руки от всего этого свинства! Единственное, что читатель моего обвинения с трудом бы понял, так это: я был обвинен и в лесбиянстве. Такие вещи меня и вправду занимали с тех пор, как я прочел тысячи страниц доктора Магнуса Хиршфельда «Die Homosexualität des Mannes end des Weibes » [11] «Гомосексуальность мужчины и женщины» (нем.).
. Но поскольку настоящие лесбиянки на самом деле — скрытые мужчины, на допросе я ограничился дорогой с двусторонним движением, где особо привлекательным было то, что меня объединяло с ними обожание женских половых признаков. Как-то я взялся за знакомого, о котором шел слух, что он «с голубизной» и что трезвого его радуют женщины, а пьяного — мальчики. Однако он тут же занял «круговую оборону» против меня — слишком хорошо знал о моей преданности юбке. Оказалось, то, о чем поговаривали, — правда. А когда он понял, что все это было лишь проверкой, сконфузился. Сначала он рассказал мне, как его соблазнил учитель греческого в католической школе, который подлавливал юношей объяснениями греческого гомоэротизма и особенно чтением «Пира» Платона. Потом же люто меня возненавидел. А тот учитель — чья сексуальная направленность, а также и деятельность для общественности была тайной — после победы из столпа католичества превратился в партийного деятеля, и только бог знает, не женился ли? До Информбюро 1948 г. он был активный сталинист, а после — убежденный антисталинист.
Мой скудоумный знакомый позже кому-то хвастался, что, дескать, я его сексуально оприходовал сзади, что, конечно, было неправдой. Это было невозможно — парень был прилизанным мужланом. Но и это дошло до ушей моего следователя. Лейтенант, игравший в футбол и ходивший в вечернюю школу, был заметно разочарован. Мне его было почти жалко. И где-то глубоко во мне даже отозвался какой-то стыдливый мелкобуржуазный комплексик, сокрушивший меня.
Только на следующем пункте — попытка убийства — я вновь высоко поднял голову. О, мой лейтенант, сколько труда я тебе доставил и сколько разочарований ты пережил со мной! Иногда он говорил: «Ой, вы, Левитан, коварны!» А я не понимал, почему я коварен. Как-то, когда я принялся переформулировать какую-то фразу, он бросил связку ключей об стол и с искренней горечью в голосе воскликнул: «Я б еще понял, если бы вас поднимали на дыбу, если бы вам выкручивали члены, избивали… а вы так спокойненько сидите и курите сигарету — и только доставляете мне хлопоты!» После одного неудачного ночного перекрестного допроса под прожектором (в темноте одни стоят впереди, другие сзади и забрасывают вопросами), когда прочие ушли, когда включили нормальный свет и мы остались вдвоем, глубоко опечаленный, он сказал: «По вам, Левитан, видно, что вы не привыкли иметь дело с полицией!»
Не знаю, действительно ли он не знал или делал вид, что не знает, как меня частенько уводят на спецдопросы в подвал. Меня не били, но я узнал, что я за отребье и что меня ждет петля, поскольку на меня жаль патронов. Как обвинение мне читали отрывок из какой-то моей рукописи, спустя многие годы до последней запятой опубликованной в одной из моих книг на родине, как родной край называют ласточки. Они уверяли меня также, что я — «клерикал», поскольку натолкнулись где-то на соответствующее описание какого-то свободомыслящего священника. Это меня озаботило: они и вправду думают, что я — «клерикал», «церковно-приходской прихвостень», — тогда от их «психологии» мне действительно не стоит ожидать ничего хорошего! Значит, надо подготовиться к смерти. Через повешенье в каком-нибудь заброшенном помещении.
Очень важно, чтобы человека не застали врасплох. Ведь смерть — это такое значительное действо в жизни, что она должна быть красива. До последней мелочи я продумал несколько вариантов и вечером в радиопередаче пел новую песню «Под петлею стою…» Идею схватить кого-нибудь из присутствующих при повешенье за горло я отверг. Спасенья нет, и умный человек не заморачивается. Однако кое-что сказать следует. Любой человек — это только человек, у него есть нервы и воспоминания. Будут течь года, у палачей, как правило, сдают нервы перед смертью — и мое слово будет услышано.
Я ломал голову над тем, какие именно. Когда немцы посреди Белграда вешали партизана, он бросил им в лицо: «Смерть фашизму — свободу народу!», — и умер с рукой, сжатой в кулак. Я не принадлежу ни к одному известному течению, у меня нет никакого девиза, я ненавижу политику и к тому же — горжусь собственной оригинальностью.
Читать дальше
![Витомил Зупан Левитан [Роман, а может, и нет] обложка книги](/books/32925/vitomil-zupan-levitan-roman-a-mozhet-i-net-cover.webp)