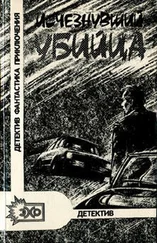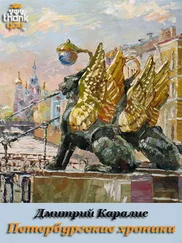С ощущением, что я – особенный (неверно, что это свидетельствует исключительно о каких-то, чаще всего неоправданных претензиях носителей таких ощущений), особенный среди обыкновенных, что во мне присутствует нечто, отличающее меня от всех прочих, я свыкся давно. Поначалу оно было неоформленным, скорее не ощущением, а его предчувствием, неким смутным намеком на то, что обязательно должно случиться в будущем, должно как бы развернуться из моих особенностей, из моих отличий от других. Но с того времени, как я пошел по стопам отца, мне начало казаться: это существует не в отдалении, временном и пространственном, а наличествует здесь и сейчас, окружает, носится в воздухе, окутывает, непонятное и неясное. Причем это, таящее загадку, каким-то также непонятным образом было связано с моим отцом.
Объяснение, что такая связь закономерна, поскольку я, Генрих Генрихович, – сын, а Генрих Рудольфович – отец, не удовлетворяло: родство объясняло только наличие самой связи, а не ее содержание. Постепенно, шаг за шагом я пытался разобраться в своих предчувствиях, искал то, из чего они вырастали. Пытался понять: откуда исходила угроза. Расспрашивал отца о родственниках, думая, что если кто-то из дядьев страдал, скажем, шизофренией, то болезнь вполне могла добраться и до меня, и тогда мои ощущения лучше всего объяснит психиатр.
Но родственников не было. Ни одного. Все или умерли, когда отец мой был еще ребенком, или погибли на фронтах всевозможных войн, или были расстреляны в промежутках меж ними. Кто из них чем болел, кто от чего страдал, кто что предчувствовал, оставалось неизвестным.
Я как бы отслаивал от себя все наносное, чужое, чтобы в конце концов добраться до сердцевины, которая, я был убежден, существует. Мне это удавалось, но только наполовину: после отнятия внешнего перед моим взором возникала черная дыра.
Отец мой был неблагодарным слушателем. И становился еще более неблагодарным, когда я вновь и вновь возвращался к, видимо, порядком надоевшей ему теме моих ощущений, к теме витающей везде и всюду угрозы. Он отвечал односложно, иногда отделывался неуклюжими шутками, чем еще сильнее укреплял меня в уверенности, что предчувствия не мелочь, что за ними что-то стоит.
– У тебя мания преследования? – спрашивал он.
– Да! – отвечал я.
– Или мания величия?
Я вновь соглашался, пытался объяснить ему свой метод, но отец отмахивался.
Постепенно я оставил попытки чего-нибудь от него добиться. Мне, в особенности после переселения в новый дом и новую мастерскую, начало казаться, что все дело в работе, в моих, пусть от случая к случаю, занятиях ретушью. Я отметил, что, когда ретушировал, ощущение угрозы, опасности усиливалось. Я словно переступал некую черту, за которой были уже свои, отличные от привычных законы и правила. Здесь я начинал соприкасаться с совершенно новым и сулящим одни неприятности миром.
Черная дыра принималась пульсировать, и это было одной из причин, по которой я, несмотря на навязчивое желание исправить неточности, подправить чужие недочеты, крайне неохотно брался за такую работу. Разве что хороший заработок мог еще как-то прельстить, но более заработка прельщала похвала моим умениям, действительно сравнимым с тем, на что был способен самый современный компьютер, а иногда и превосходящим его.
Более же похвал и заработка меня волновало мнение женщин: признание ими моих – отнюдь не обязательно чисто мужских – достоинств всегда было главной наградой.
Мои женщины делились на две категории: те, кого привозили в мастерскую, и прочие. Как вести себя с первыми, я знал. Переступив порог, они, пусть частично, уже мне принадлежали. Надо было только поманить. Что-нибудь посулить. Выставить себя в выгодном свете. Было ясно, что как фотограф я не лучше и не хуже других. Удачливее – это верно.
А вот мое искусство ретуши вполне годилось для построения пьедестала.
Случались и отказы, но это никогда меня не расстраивало. Отказавшая всегда сменялась другой, согласной хоть немного побыть со мной наедине, хоть одну ночь, хоть несколько часов, хоть то время, которое требовалось для быстрой разминки в спальне.
С прочими возникали проблемы. Они от меня не зависели, и Минаева, хоть ее и привез Кулагин, была из их числа.
Я сразу догадался, зачем она приехала: хотела меня поиметь и явно расстроилась, застав в одиночестве. Ей нужны были зрители, будущие свидетели ее скорой победы: если бы в мастерской оказалась Алина, Минаева начала бы настоящую битву. Не за меня – только чтобы доказать: она сильнее. Стесняться же, крутить вокруг да около она сочла бы лишним: я был специалистом в своем деле, она – в своем, в том, что важнее прочих.
Читать дальше