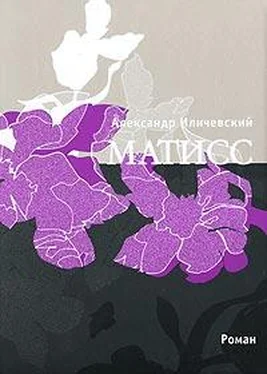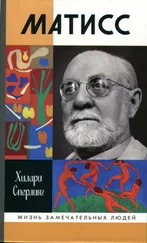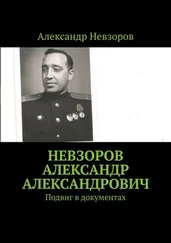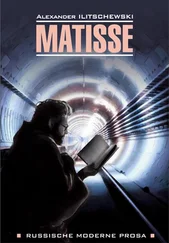И вот там, перед Лозиком, эта уверенность стала сбоить.
Равнодушие разверзлось перед ним.
Равнодушие это стало самым страшным, что он испытал.
Королев крепко задумался. Он думал так, как сломанная машина, не в силах двинуться дальше, перемалывает саму себя в неподвижности.
Вся его научная жизнь (а никакой другой у него никогда и не было) пронеслась перед ним феерическим скоплением моделей, теорий, разделов, отраслей, отдельных ярких задач. Проблема Лозика – понять, что было «нечистым» в эксперименте: «мишень» или «источник» – попала под понесшие шестерни.
Наконец он пробормотал:
– Цель. Или источник.
И ускорил шаг.
Весь день набрасывал петли по парку. Ничего не видел вокруг.
Вечером влетел в «машинный зал». Метался понизу, останавливался, снимал с установки брезент, сдергивал, валил ящики, стойки; снова принимался выхаживать.
Наконец понял, где находится, что это такое громоздится вокруг.
Забрался на ускоритель. Постоял, то наклоняясь, то отпадая на пятку. Взмахнул – и ринулся по тубе, взметывая руки, спуртом выдыхая, выжимая еще, еще – и «рыбкой» швырнул себя в гору оборудования, облепившего камеру с «мишенью».
Чудом не раскроил череп.
Очнулся поздно утром.
Голова была ясной. При касании болела шишка, на ощупь казавшаяся размером с четверть головы.
Выбираясь наружу, глянул вверх. Мыша нигде не было.
Пошарил глазами. Мышь торчал в окне, в щели, которую всегда прошивал навылет. Он еще слабо трепыхался, не в силах вырвать крыло из ранящего клина.
Королев попал в окно с третьего раза.
Зашиб он мыша или спас – его не интересовало.
XLVII
Плюс все это житье в Боярышевой усадьбе сопровождалось трагикомическими попытками бежать безденежья, угнавшись за пустым рублем. Но, как выяснилось, эта его факультативная работа в Президиуме Академии Наук не стоила и гроша: там чиновные проходимцы пытались привлечь его в разворовывание академических фондов, выделенных на проведение научных конференций.
Но само здание Президиума над Андреевским монастырем, над рекой и Нескучным Садом, над Воробьевыми горами, усыпанными искрящимся снежным светом – стоило того, чтобы там бывать. Ошеломительные виды из окон – с разной, порой головокружительной высоты, в зависимости от кабинета посещаемого академика, плюс само здание, баснословное по вычурности и топологической замысловатости: сплошь мрамор и золоченый дюралий, исход имперских времен, апофеоз позитивистской выспренности. Всякий раз Королев с испугом, как в тропические дебри, выходил из комнаты. Даже поход в столовку, не то что на верхние этажи – не гарантировал возвращения. Структура здания была переогромленна, но в то же время невероятно продуманна с какой-то шизоидной выверенностью и потусторонней рационалистичностью, от которой – от противного – у Королева тут же начиналось вертиго и паника.
Вся эта дерзновенная колоссальность неудержимо обрушивалась на него, отчего-то напоминая построения Третьего рейха. Бесчеловечная тщета и горделивая бессмыслица этих железобетонных, стеклянных конструкций и мыслей, уничтожающих человеческое достоинство, заживо хоронили Королева. Все это действовало сочетанием дикого интереса и удушения его тягой: бесконечные переплетающиеся лестницы, отсутствие сквозных сообщений, множество вновь и вновь, с каждым проходом мимо, первооткрываемых элементов архитектуры; прогулочный дворик на приставной крыше, лучи, ведущие к постаментам, на них статуи великих ученых: Ковалевская, Вейерштрасс, Остроградский, Ньютон – в полный рост, как грации вдоль дорожек и скамеек пустующего висячего сквера, над которым носится бес метели, вьюжит, крутит, поливая, уматывая все снежным шлейфом. Летний сад при Большом концертном зале, где обычно выпивали академики, представлял собой аквариум высотой метров тридцать, полный зарослей – пальм, магнолий, олеандра, лимонника, бегонии…
Создавалось впечатление, что академиков моложе ста лет на банкеты не допускали. Зал был полон Циолковских с ушными трубками. Они спутывались бородами, опускали лица в блюда с устрицами, официанты распутывали им бороды, раскрывали артрические объятия. Кто-то из старцев танцевал, кто-то пел пьяную польку с профурсетками, поставляемыми массовиками-затейниками, кто-то отдыхал, завалившись в островок с целой рощицей фикусов.
Стеклянная Ротонда на втором этаже, полная хрустальных люстр и кадок под тропическими деревами, выглядела как некий колумбарий с бюстами мертвых академиков по кругу, в натуральную величину, выполненных с изобразительной точностью – как Иван Грозный, воскрешенный антропологом Герасимовым. Королев боялся туда заходить: жуткое зрелище; он убедился там, в ротонде, что скульптура по сравнению с подражательной копией – это жизнь по сравнению с трупом.
Читать дальше