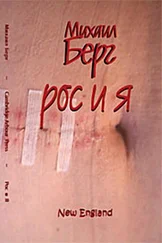но даже если говорить об истории в сослагательном наклонении, с отвращением отвергаемом историками, - Дантес убит, Пушкин после следствия сослан в Болдино, - достаточно ли этого для того, чтобы «подвергнуть Пушкина остракизму» и превратить его в жупел «безнравственности и аморализма»? Вряд ли. Однако, как пишет в соответствующем месте Тян-Шанский (на самом деле не совсем точно цитируя А. И. Васильчикова), «если добавить к сказанному многочисленные любовные истории этого баловня чужих жен и грозы мужей, то как представить себе, чтобы какой-то муж в конце концов не возмутился его беспардонным ухаживанием, не потребовал бы удовлетворения и не прислал бы вызов?»
Да, Пушкин, почитавший «мщение за одну из первых христианских добродетелей» (христианство Пушкина - розановское, ветхозаветное, недаром в интерпретации Б. Парамонова Пушкин - еврей), мог бы стать убийцей Дантеса, с неутомимым занудством страсти компрометировавшего его жену (Зинаида Шаховская - переменив пол, в «Несчастной дуэли» она предстала в образе прыщавого семинариста Зиновия Шаховского - использовала это предположение для довольно беспомощного и по-дамски кокетливого рассказа о «старости Пушкина»); но в кишиневский, одесский, московский, петербургский период и сам Пушкин нередко исполнял роль Дантеса, ухаживал за чужими женами и мог быть вызван к барьеру пострадавшей стороной, в результате чего справедливость, если она вообще существует, была бы от него еще дальше. Но мог ли даже в этом прискорбно гипотетическом случае Пушкин стрелять в своего соперника и - более того - убить его? Только случайно; этой микроскопической доли вероятности оказалось достаточно для вполне беспардонного рассказчика, неловко, надо сказать, скрывшегося под личиной известного географа и путешественника.
Итак, первой пульсацией этого романа стала довольно малопродуктивная идея, нашедшая отражение во фразе, сурово разделившей две ипостаси - великого поэта и оскорбленного обманутого мужа, - для того чтобы впоследствии привести их к барьеру; противостояние этих ипостасей явилось сюжетным мостом для перфектологического романа. Я предполагал описать жизнь Пушкина в строгом соответствии с киселем из хрестоматийно известных фактов его биографии и тех многочисленных и банальных инвектив, с которыми сам Пушкин мог познакомиться (и, конечно, знал о них) по статьям о его позднем творчестве, и с учетом когда осторожных и тупых, когда яростно заточенных критических стрел его друзей, - о них мы осведомлены куда больше, чем сам поэт. Беспощадные отзывы о нем Веневитинова, Языкова, Козлова, Боратынского, Вяземского, Гоголя (Толстой мне не понадобился, хотя в конце жизни и старец из Ясной Поляны, как известно, утверждал, что ему нравится только одно стихотворение Пушкина, за исключением единственной строчки - «Но строк печальных не смываю»; Толстому более импонировал эпитет «постыдных»); я не говорю о Погодине, Полевом, Булгарине или Писареве - все это высвечивало такой ослепительно яркий полюс неприятия и отчуждения, объяснить которые только непониманием и завистью затруднительно, если не видеть, что любовь к Пушкину, увы, всегда была замешана на обиде вкупе с недоумением. А если вспомнить, что древним аналогом слова «язык» являлось слово «народ», то можно говорить и о том, что Пушкин и русская литература в ее мейнстриме говорили на разных языках, воплощали две противоположные версии народа и два разных способа апроприации власти, что в природе встречается не так и редко: бабочка и гусеница являют собой разные стадии одной метаморфозы.
Однако первый вариант романа оглушительно свидетельствовал о том, что на самом деле я знал, увы, заранее, - роман о Пушкине невозможен. Его биография настолько обмусолена, разобрана и затаскана, давно став достоянием не только пушкиноведов, вышедших из гоголевской шинели на подкладке натуральной школы, но и массового сознания, что в «романе о Пушкине» не оставалось свободного пространства - ни для сюжета, построенного на широко известных данных, ни - тем более - для вымысла. Только человек, не чувствующий властной прелести документа, в состоянии заставить своего кукольного «Пушкина» говорить словами писем, стихов, статей или теми фразами, которые вкладывались в его уста мемуаристами, действительно знавшими Пушкина и, возможно, точно фиксировавшими мысль поэта. Характерно, что Тынянов в «Кюхле» позволяет Пушкину появляться только в эпизодах, в качестве полуанекдотического персонажа второго ряда, а его же «Пушкин» обрывается на излете лицейской юности: описывается до-Пушкин, пред-Пушкин и то распахнутое в неизвестность и будущее пространство и время, когда для точной догадки, вымысла, конструирования на основе документа и фантазии место еще есть.
Читать дальше