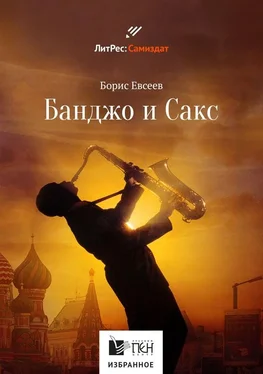Тут же Валуй со страхом стал думать: враньё не поможет, его засмеют, выставят с позором!
Однако враньё помогло, Косю взяли сторожем.
Он стал ходить с ружьём, а чаще без ружья, вокруг дачной конторы. При ходьбе – удивлялся: «Вот оно оказывается, как жить надо было! Соврал – получил. Получил – ври себе дальше! Ох ты времечко наше, ох ты липовое!»
Получалось так: вся прежняя жизнь с казённой и неказённой правдой, с её дурацкими поисками, с отказом от кладов и от присвоения чужих слов и мыслей – была излишней, ненужной.
Кося тут же решил на ту, старую, жизнь плюнуть, начать новую.
И теперь из прежней жизни его беспокоила одна только трава нечуй-ветер. Беспокоила, потому что он не знал толком: для чего и зачем она всё-таки существует, для чего так таинственно называется.
Да и Азочка всё приставала: расскажи дед, да расскажи, даром, что ли, тебя на работу брали!
Оттого-то, походив часок с ружьём, а потом покемарив сколько душа требовала в тёпло-пахучем собачьем закутке, Кося, ближе к ночи, шёл в дачную контору, заступал на дежурство, начинал читать травяные книги. Но потом от нетерпения их бросал, бродил по краешку тёмных лугов, внюхивался – снова-таки, как собака, – в траву, тихо рыкал, даже скулил от нетерпенья…
Прошёл почти год.
Кося ходит всё так же медленно, но живёт и живёт, и помирать не собирается.
Теперь ему нравится рассказывать небылицы. Иногда он даже запирает ладонью рот, чтоб не соврать лишнего. Сладкая лживость разгладила ему лицо, сделала глазки маслеными, рожицу – по-стариковски довольной.
Лишь иногда тень испуга ложится на его лицо. Но это происходит только тогда, когда с губ срываются два слова, которые в Косином произношении придвигаются одно к другому всё тесней, становятся всё неотделимей друг от дружки: как дно и поверхность, как земля и небо.
И придвигаются эти слова до тех пор, пока не сливаются в одно: тихо тающее, и вот-вот – как беспамятливая жизнь – от Коси откочующее:
– Нечуй ветер. Нечуй-ве. Нечуй… Невей…
Не вей ты и надо мной, не вей над всеми нами – нечуемый ветер исчезновений, ветер потемневшей от горя любви и осевшей на землю травяной пылью беспричинной радости.
Нечуемо улетят ложь и правда, и счастье с несчастьем.
А что останется? Одна слеза на щеке.
Слеза светлая, слеза радостная – мир наш и есть. И только через эту слезу видится то, что дороже даже и самого, запечатленного в славе и несчастьях, дольнего мира: видится будущая встреча.
Лес кончался оврагом, дачами и рекой.
Густо-синий, с обморочно лиловыми темнотами в глубинах, по краю оврага он желтел, подсыхал, шел в повал, измельчался в подрост, терял строгость и силу. Овраг же был наполнен всяческой дребеденью и ненужным хламом: кроватные сетки, рамы от велосипедов, проеденные насквозь нежной мокрой ржой остовы пылесосов, сломанные рукомойники, рваные шланги громоздились вместе, торчали порознь. Сюда, к неудобной для купания реке, под обнажавшиеся корни небольшого, но мощного и таинственного леса, сносили всё то, что накладно и некрасиво было держать близ дач, всё – за вычетом мелкого мусора: его валили в кучи прямо у заборов, у ворот. Иногда кучи эти пылали сизым бестрепетным пламенем. Казалось: само пламя содержит в себе гниющий, умирающий на лету мусорный газ.
Лес, как общность, от мусорного пламени и овражного хлама почти не страдал, хоть дозорные его деревья, ловкими бегунами устремлявшиеся по склону вниз, и били, и ранили о железо свои гибкие длинные корни.
Лес был стар, но не мертв, и никакой дряхлости в его чащобах, на прогалинах и обочь едва заметных троп не замечалось. А замечалась свистящая, бесплотная легкость – весной, кряжистая увесистость – зимой, сладкая знобливость – летом, гулкая неспешность перекликаний меж ветвями и листьями, меж подлеском, кронами и узлами стволов – осенью.
Тысячью глаз и ушей лес примечал и слышал все. И пусть какого-то ягодника, забредшего в лес оплошкой и вместо собиранья черники исподтишка режущего-ковыряющего кору деревьев, слышал только восточный склон, пусть валяющихся на лапнике мужчин и женщин видели лишь деревья Медвежьей Поляны, – сведения обо всем и обо всех откладывались в его общих, огромных и потому невидимых кольцах, шумели и обговаривались, – когда надо, – в прохладных, серебрящих на ветру зелень игольчатую и листовую кронах.
Бандит – а по-современному рэкетир-мокрушник – Гоша Маклак попал в лес осенью, через западную, почти смыкавшуюся с лесами соседними опушку. Маклак убежал из Загорской тюрьмы и петлял по окрестным лесам почти неделю, выискивая какую-нибудь отшибленную на край и уже оставленную хозяевами на зиму дачу. Он вошел в лес утром. Лес в этот час еще плавал в густой текучей дреме. Конечно, сон леса – понятие очень зыбкое, спят не все его ярусы, не все слагаемые и части: шелестят на опушках кремлёвые сосны, поют, а затем, дрожа, вслушиваются в отзвучавшее пенье никогда не дремлющие верховки, шевелятся мыслящие без излишнего мудрствования корни, растет во сне мох, тихо посвистывают в земле туда загодя зароненные семена…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу