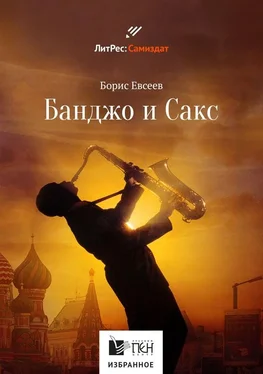На него тоже обратили внимание.
– Пану погано? – метнулась к нему какая-то фигура. – А вот понюхайте, пан, нашатырненького! Вот вам и ватка! – засуетился над мастером смычков, уже поднимавшимся, чтобы забрать пана русского из машины, в которую того заталкивали, вытащить оттуда, выдрать, взять, в конце концов, на поруки, под залог, кто-то говорящий на плохом польском. И пан поляк этого «нашатырненького», странно пахнувшего спирта одной ноздрей потянул – и враз перестал что-либо видеть и слышать.
Он очнулся все на том же, у выхода из универмага, ящике. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять – случилось наихудшее: ни пана русского, ни машин, ни полиции – никого! Одна только темень, одна ночь. Да, было темно, было страшно, но сердце мастера смычков билось вперебой этой темноте и этому страху – ровно, четко, порой даже грозно…
Сердце ни разу не подвело пана поляка и после. Он сразу же стал выяснять, где может быть пан русский, и весьма скоро это выяснил. Он стал ходить в полицию, а затем и к судебному следователю, однако тот через несколько дней сообщил пану с прискорбием, но, как показалось, и с тайным наслаждением, что подследственный такой-то пропал без вести, что в польской тюрьме орудует русская мафия, что человек, о котором так заботится пан мастер, не стоит ни малейшего попечительства и лучше его забыть, тем более что для польской пенитенциарной системы такие воспоминания, как пропажа из тюрьмы человека, весьма неприятны.
Пан поляк дернулся еще туда, дернулся сюда. Куда из старой тюрьмы на Раковецкой улице исчез пан русский, он уже догадывался. Но верить в свою догадку не хотел, верить в нее не мог. А потому и выхода-то настоящего у пана поляка никакого не было. Верней, один несуразный и не совсем удобный выход был: ехать!
И пан поляк, чуть медля, ругая себя и осаживая, собрался и поехал в Россию. У него был единственный, смутноватый и неполный адрес, и если пана русского или весточки от него по этому адресу не окажется – значит, нет его больше на этой сухой, бесплодной, некрасивой и по-зимнему истомляюще ветреной земле.
Он стоял у ограды, бледногубый, круглолицый, дородный, несмотря на мороз и зиму, простоволосый, с выщербленным розовато-серым, как бы мраморным затылком, и гладил черную ленту. Ленту он только что сам привязал к ограде, взметнувшейся высоко и гордо над гранитным, великолепно отполированным цоколем. Он смотрел сквозь ограду, сквозь деревья, сквозь само мутновато-белое здание и понимал: теперь его жизнь внезапно стала широкой и лишилась берегов. Надо было возвращаться в Варшаву, надо было искать и находить нового человека, надо было снова ладить смычки, словом, начинать все сначала. Но интереса к делу больше не было. Вместе с пропавшим паном русским из пана поляка ушли мастеровитость, усердие, понимание, надежда, даже любовь. Кто пан русский был пану поляку? Никто, конечно, никто! Так зачем его помнить и зачем звать? Зачем вспоминать все время, как ходил пан поляк по единственному оставшемуся от пана русского адресу и как обнаружил он там вместо преданно ждущей невесты или седенькой, такой же аккуратной и чистоплотной, как и сам пан русский, матери его подозрительное кафе, чье название он принял по наивности за женское, ласкающее слух имя. Зачем вспоминать странных людей в кафе, с военной выправкой, хорошо бритых, скрытных, неразговорчивых, явно что-то затевающих? Зачем, зачем?
«Брат, брат», – твердил про себя, как бы вперебив этим мыслям и ненужным вопросам, пан поляк.
«Брат!.. Это ведь больше жены, сильней любви! Брат, отзовись, прошу! Отзовись, брат! От…»
Пан поляк гладил длинную ленту, и на его круглом, все больше и больше бледнеющем лице ясно просматривались две высохшие узкие полоски от слез, тянувшиеся по щекам к тучноватой розовой шее. Одна полоска была длиннее, другая короче, словно не добежавшую по узкой колее до положенного обрыва слезу смахнул московский снежок, или снес варшавский туман, или промокнул ангел, незаметно и необременительно, но зорко приглядывавший за паном поляком, так же, как раньше приглядывал он за паном русским.
Но пан поляк не замечал ни ангела, увлекшего его в забытую Богом, растерзанную Россию и витавшего теперь за черной оградой в кронах зимних деревьев, ни людей, подымавшихся с набережной Москвы-реки на Пресню и тревожно поглядывавших на тучного высокого человека, стоящего в опасном, открытом для стужи и ветра месте. Он не замечал никого, ничего. Никаких людей он не видел! Потому – что не было для пана поляка человека лучше, чем пан русский. А почему это так – кто узнает теперь?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу