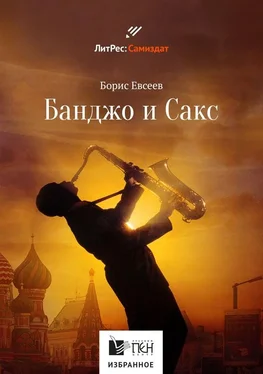Сразу за памятником Мицкевичу тревога вновь крепко взнуздывает пана поляка и до самой Крулев-ской площади его не отпускает. И тут уже пан русский манит пана поляка своим розовым, головастым, насквозь пробитым шилом (отчего на ногте есть черное пятно) пальцем. Потому что здесь пан поляк всегда в нерешительности останавливается. Может, тревога исходит оттуда, из замка? Нет, непохоже. И после недолгих препираний: «Пойдет пан? – Нец, час до дому. – Пан кидае своего пшиятеля? – Не кидае, але… – Тоди горазд, якщо пан грэбуе… – О, як пану не сором»… И после препираний недолгих они впритирку друг к другу быстро входят в замковый музей и идут его анфиладами. Они идут всегда в одном направлении и останавливаются всегда в одном и том же зале. Сначала служители и охрана принимали их за провинциалов, потом за русских «рэксов», но в конце концов установился взгляд, что это начинающие коллекционеры, быть может, дядя и племянник, и вздрагивать при их стремительной через все залы проходке перестали.
Они же всегда останавливаются у мраморной, в рост человека, статуи лысого старика, с золотою косой в руках, «тарабанящего» на своем горбу – будто собрался старик на знаменитую варшавскую барахолку – сине-белый, с золотым сверкающим ободом, глобус. Здесь пан русский говорит «так-то», а пан поляк любовно и нежно прищелкивает языком. И постояв так немного, они уходят к себе на Хмельную, где рядом с четырехкомнатной квартирой пана поляка снимает крохотную каморку пан русский. При подходе же к Хмельной пан поляк впадает в странное состояние: тревога с небывалой скоростью начинает, потрескивая, то вспыхивать, то гаснуть перед ним, как неисправная лампочка в подъезде у каких-нибудь лайдаков: свет – тьма, есть-нет, свет – тьма… Поблымав так с минуту, тревога угасает насовсем, до следующей вечерней прогулки.
Но зато перебирается вмиг тревога, – как ловкая потаскушка, уже опустошившая карманы одного клиента и ищущая новых удовольствий, – но зато перебирается теперь тревога к пану русскому. При подходе к Хмельной пан русский начинает нервно оглядываться, два-три раза ему чудилось даже, что он видит подозрительного человека в кепке с огромным козырьком, который к ним с паном поляком слишком уж рассеянно и беспечно старается подобраться поближе. Но это могло ведь и показаться, человек в кепке мог жить где-то здесь, неподалеку! А вот что показаться не могло, так это, конечно, дрожь пана русского от осознания им своего положения. Положение же у пана русского в Варшаве аховое, вида на жительство у него нет, и только доброта пана поляка позволяет ему жить свободно, жевать свободно, пить-попивать свободно и дышать хоть, может, и не полной грудью, но тоже почти что свободно.
А попал сюда пан русский год назад, ни на что не надеясь, ни на что не рассчитывая, удивляясь, как вообще жив остался. Иногда он очень скупо рассказывает пану поляку про танковый липкий огонь, летевший с набережной реки, про пожар в громадном, начиненном коврами, узко-длинными абстрактными картинами и разноцветным пластиком доме, про узкий, душный, завешенный гарью, забитый трупами «стакан». «Стаканом» называли тогда те, кто горел и умирал под кумулятивными снарядами, башню над огромным домом, башню, в которую набились смельчаки, сумасшедшие и те, кому терять было уже нечего, кто видел перед собой только один путь: узкую, забивающую дыхание лестницу, уводящую прямо в небо. Пан русский был в «стакане», но в последний момент его оттуда вывели. Как вывели и кто вывел, – он не рассказывал, но пан поляк сам про себя решил так: провести пана русского среди трупов, среди бьющихся в агонии раненых, среди теряющих разум людей мог один только ангел.
А пан русский тогда сразу уехал в Варшаву, где никого не знал и где никто его не стал бы искать. И никакие сомнения тогда пана русского не грызли: путь перед ним был один. Очень узок был этот путь, не шире, чем узкоколейка, на которую натужно и долго в Бресте переставляли поезд; думать было некогда да и незачем, да и кто бы позволил ему тогда мудрствовать: на плечах висел ОМОН, хватала за полы визгливой собачонкой смерть, а прожить пан русский обязан был ровно столько, сколько ему полагалось.
– Афрыка марна, Афрыка скварна… – всегда запевал перед своим домом пан поляк. Это означало: прогулка закончилась.
Купим себе слоня,
И дзикого коня.
Афрыка марна, Афрыка скварна…
А это означало, что их ждет ужин. Насчет песни же пан поляк еще полгода назад объяснил пану русскому, что когда-то давно поляки хотели иметь колонию в Африке, хотели даже выкупить у французов Мадагаскар. Но… Но… Теперь это просто мечты! И ничего дальше не объясняя, пан поляк заканчивал всегда весело:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу