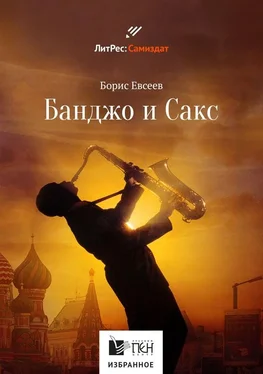Он продолжал улыбаться: новая жизнь нравилась, предстоящая встреча с местами, где появился на свет его отец, казалась сказочной удачей. Его неостановимо влекло в неведомые и пока невидимые горы, начинавшиеся где-то южней и западней укрытого туманом по плечи Арарата.
Той же ночью.
Той же ночью Надиршах и Елена выехали поездом на Джульфу и дальше на Тебриз и Тегеран.
В Тегеране жили в Джемшибаде, за Университетом. Прожили там опять же девять дней. Эта постоянно повторяющаяся цифра девять стала наконец её смешить. Чтобы не смеяться вслух настойчивости цифровых совпадений, не смеяться пунктуальности жилистых курдов и надменности толстеньких персов, она опять стала заниматься, петь. В доме был рояль. Но петь здесь, в отличие от Еревана, запретили вовсе. Она не послушалась: пелось здесь хорошо, может причиной тому был менее насыщенный каменной плотью воздух… Тогда её попросили ограничиться одной западной классикой и ничего, ни одной нотной строчки не петь по-русски.
Она начала распеваться с простеньких вокализов, затем переходила к Моцарту. Влюблённого пажа Керубино сменяли потаскушки из «Cosi fan tutte», Царицу Ночи – донна Анна. Старая музыка с давно заученными немецко-итальянскими словами и каденциями говорила ей о чём-то новом, давала толчок развитию мыслей небывалых. Звонки воздуха, верещанье гор, шевеления далёкого моря – стали казаться сутью жизнь. Звук, только звук! Жадно пить его, жадно поедать! Тут же перед ней вырастали вершины и пропасти, чудился летящий в коконе огня Зарастро, гремели обвалы и турецкие тулумбасы, подобные тем, что было в моцартовской «Волшебной флейте». Пение вещей толкало вперед, вверх! Пронестись над пропастью жизни, перешагнуть её на волне звука! Перешагнуть, перелететь, уцелеть!
Может поэтому переход с оперно-театральных высот на театр военных действий дался ей легко.
«Сила женщины – сила пения. Сила мужика – сила войны», – стало думаться ей. Она уже знала: они едут воевать! И небывалое, неведомое прежде доверие к путеводной звезде пения овладевало ею сильней, сильней. Заодно возрастало доверие к мужу. Она стала чаще ластиться к нему, он в ответ привычно посмеивался, делал большие глаза и куда-то постоянно на полдня исчезал. Однако к вечеру всегда возвращался. Руки его чуть заметно дрожали.
Тот бой.
С наступлением вечернего времени, времени молитв и мира, тот бой не кончился. Бой шёл уже четыре часа и в классическом смысле слова, боем конечно не был. Просто турки густо бомбили расположение отряда, а затем посылали полуроту или даже взвод защищать от раненых и недобитых (если таковые попадались) края обработанного квадрата. Простота и ясность царили над предгорьями и горами в тот час: бомбёжка – зачистка, зачистка – бомбёжка. Сорим – убираем, насорили – метём. Иногда между «чистильщиками» и партизанами завязывалась конвульсивная и бесцельная перестрелка: партизаны бухали из гранатомётов, турки отвечали очередями из короткоствольных автоматов. Было ясно: пулевая стрельба – нечто отжившее, никому не нужное, лишнее. Такой бой, каждый новый фрагмент его, привычки, а стало быть, и некоторой приязни к себе, не вырабатывал. Бой этот не нёс хотя б отдалённой гармонии, гармонии, конечно же, дикой, ложной, но безопасных зрителей всегда завораживающей. Не было в таком бою и древнего ликующего пенья возмездий и кар. А была одна только механика подсчетов, механика вылетов-возвращений, механика цифровых мельканий или полного исчезновения цифр. Потому-то с каждым бомбовым или ракетным ударом, с каждым плевком гранатомёта ей становилось хуже, тяжелей. От тяжести терялся на какое-то время сам рассудок, терялось внутреннее, непрерываемое ничем звучание музыки, пропадал голос. Голоса ей теперь не стало бы даже на жалкое бормотанье, а не то, что на настоящее пенье!
Ёлку прикомандировали к штабу. Здесь было безопасней, до штабных пещерных домиков, до прямоугольных палаток и саманных, крытых камышом крыш, в которых жили штабные, турки добиться пока не могли. Он с госпиталем находился тоже неподалёку, однако дикая безысходность от нескончаемых разрывов, от тупой, бесконечно неправильной ритмики попаданий и промахов, рождала у неё ощущение мёртвого и абсолютного одиночества.
В горах было холодно. Даже и понятие жары казалось в здешних местах неуместным. Сам же горный, ни на какой из карт не обозначенный Курдистан, казавшийся раньше оазисом тепла и родственных отношений – оказался бесприютным, заросшим колючей травой и грязно-серыми кустарничками пространством, не имеющим четко очерченных (пусть хотя бы и мыслью) границ. Алая акация, низкий дрок, сбирающая песок мелкими зелёными щётками арча – вот и вся растительность. Отсутствие настоящего леса тяготило его. Она стала думать: не от деревьев ли высокоствольных и её певческая сила? Она думала об этом и о другом, пыталась между боями петь, пыталась вернуть упущенные и пожранные бездной разрывов мелодии. Однако певческий дар словно бы покинул её.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу